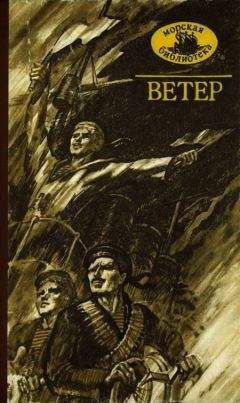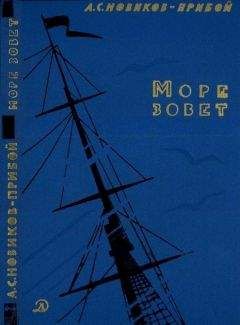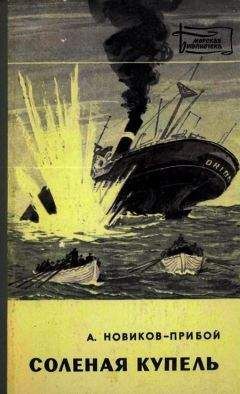В последнюю минуту Шмидт вместе со своим сыном, мальчиком шестнадцати лет, бросился в воду. Все было кончено.
„Это был день смерти, — говорил потом Шмидт о гибели „Очакова“. — Отчего я не был убит на „Очакове“ под этим невиданным в истории войны стальным градом? Не убило меня, когда я был в воде, засыпаемый пулями. Отчего не убили меня, когда я, потеряв сознание и вытащенный кем-то из воды, попал на миноносец под новый град снарядов?“
Шмидта с сыном подобрал миноносец „270“. Он быстро пошел в Артиллерийскую бухту, чтобы высадить Шмидта на берег, но залп с „Ростислава“ подбил его. Миноносец остановился.
Шмидт и его сын были арестованы офицерами с „Ростислава“.
На „Ростиславе“ мокрый и раненый Шмидт был выставлен на посмешище победителей-офицеров. Его привели в кают-компанию, где офицеры за пьяным обедом издевались над ним.
Ни Шмидту, ни его сыну не дали ни хлеба, ни воды. Шмидт несколько раз терял сознание. Потом его бросили на пол в стальную каюту и только через сутки отправили на сухопутную гауптвахту.
Конвойный офицер заблудился. Он долго водил Шмидта с сыном по оврагам на окраине Севастополя. Мальчик думал, что их ведут на расстрел. Он очень волновался, но отец не мог его успокоить, — им не разрешали говорить друг с другом.
Только на третий день Шмидта с сыном перевели на канонерскую лодку „Дунай“. Там впервые Шмидту перевязали рану и дали умыться.
Еще на миноносце „270“ кто-то накинул на Шмидта морскую матросскую шинель, измазанную углем. Шмидт после ареста был покрыт потеками черной грязи.
„Дунай“ доставил Шмидта и его сына в Очаков, в сырой каземат на острове Морской батареи.
Началась зима. Черные тучи лежали над водой. Очаковский залив замерзал. Николай торопил казнь».
Третий отрывок рукописи назывался «Статья сотая».
«Мне выпало на долю тяжелое счастье защищать на суде Шмидта. Не знаю, как по-вашему, можно так сказать или нет: „тяжелое счастье“, — но иначе я не могу определить свое тогдашнее состояние.
Жизнь моя идет к концу. Как говорят поэты, началась осень жизни, и, как всегда осенью, меня одолевают воспоминания. Прекрасное время года, как бы созданное для человеческих размышлений. Все способствует этому — и чистота воздуха, и легкий холод, и грустное настроение, разлитое вокруг, какое не сможет отрицать самый нечувствительный человек.
Каждую осень воспоминания возникают во мне с особой силой. Я не могу успокоиться, пока не поделюсь ими с кем-либо из окружающих. Я пробовал писать, но это не то. Бумага меня не успокаивает. Мне нужен живой человек.
Лучший слушатель — это мой внук-пионер. Ему я говорю обо всем. О Пятом годе, Жоресе, войне, Октябрьских днях в Москве и других величайших событиях, которым я был свидетель. Но я не могу ему рассказывать о Шмидте. Мальчик потом не спит по ночам, и мне сильно попадает от дочери.
Поэтому я чрезвычайно рад, что вы пришли ко мне. Вам я постараюсь рассказать все, что сохранила моя стариковская память.
Я упомянул о Жоресе. Я слышал его в Париже, этого бородатого и раскаленного человека. Но и в его речах было слишком много нарочитых приемов, того, что мы привыкли называть ораторским искусством.
Иногда Жорес поворачивался спиной к слушателям, потрясал над головой сжатыми кулаками и выкрикивал проклятия. Это действовало с неотразимой силой. Но все же это была великолепная игра.
А Вандервельде? Актер! В сильных местах речи он делал быстрый жест рукой, и каждый раз из рукава вылетала крахмальная круглая манжета и падала, как бомба, в задних рядах. Слушатели неистовствовали. Я прекрасно знал, что Вандервельде нарочно не пристегивал манжету, и жест этот оставлял у меня впечатление глубокой фальши.
Я вспомнил об этих ораторах, чтобы сказать вам, что искреннее Шмидта ораторов я не встречал. Мы, старые адвокаты, очень ценим ораторское искусство. Поэтому я с него начинаю.
Шмидт говорил, как величайший трибун. Он заражал людей тем состоянием, какое я назвал бы восторгом и самозабвением.
Когда он говорил, то исчезали границы между действительностью и мечтой. Непередаваемая сила его слов вырывала вас из рамок обыденной жизни, ломала законы и традиции. Вы ясно чувствовали, что все окружающее — дурной сон, что в глубине души проснулось наше детство с его стремлением к справедливости и свежестью мысли.
На суде часовые со слезами на глазах смотрели ему в лицо, отставив винтовки и бросив посты. Судьи плакали, закрыв лицо растрепанными томами этого позорного и чудовищного „дела“.
Казалось, еще минута — и конвойные бросятся к нему, силой выведут его из затхлого здания суда на свободу, вынесут его на руках и вернут жизни.
Он знал это. Ему говорили: „Бегите! Ведь ни один конвойный не сделает даже попытки задержать вас“. Он знал, что может сказать конвойным всего два слова: „Откройте двери!“ — и все двери казематов будут перед ним распахнуты настежь. Но он не сделал этого. Он не мог уйти один, бросив товарищей-матросов.
Да, судьи плакали. Не потому, конечно, что им было жаль Шмидта. У самого закоренелого человека бывают минуты, когда загнанная совесть повернется, как острый камень, и вызовет боль. Нет подлеца, который бы не сознавал свою подлость.
Если бы не настойчивые приказы Николая, суд не вынес бы ни Шмидту, ни Частнику, ни Антоненко и Гладкову смертных вердиктов. В этом были уверены все.
На суде Шмидт был прекрасен. Он был полон того личного обаяния, которое никак нельзя забыть. Оно было в простоте, в громадном расположении к людям, в искренности и мужестве.
Мне жаль, что Шмидт ушел в могилу незапечатленным. Ни одна фотография, ни один портрет не передали особого отблеска, какой лежал на нем.
Шмидт был строен и легок. Его движения были точны и спокойны. Я изъездил Европу, бывал во многих картинных галереях, видел величайшие творения кисти, но даже на картинах мастеров Возрождения я не встречал таких лиц. Есть лица, бледные от великой внутренней страсти, излучающие свет ума и благородства. Таким было лицо Шмидта.
Таким я его увидел впервые на суде в Очакове, таким он оставался до самой казни.
После казни Шмидта нашлись люди, пытавшиеся изобразить поведение Шмидта как попытку вызвать восстание с негодными средствами.
Это не так. Восстание, лишенное руководства, надвигалось стихийно. Удержать от него матросов было немыслимо. Руководить восстанием было некому — матросский боевой комитет был разгромлен после событий на „Потемкине“. В городе остались только меньшевики. Матросы требовали от них руководства. Меньшевики согласились на словах руководить восстанием, на деле же всячески тормозили его. Они позволили Чухнину разоружить флот. Они сознательно тянули, дожидаясь, пока в Севастополь были стянуты Чухниным войска из Одессы, Симферополя и Екатеринослава. Они не обратили внимания на желание солдат могущественной крепостной артиллерии присоединиться к матросам и оттолкнули их своим равнодушием. Крепость осталась за Чухниным.