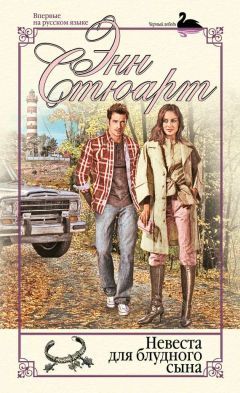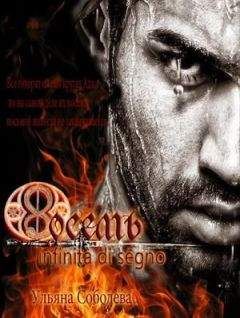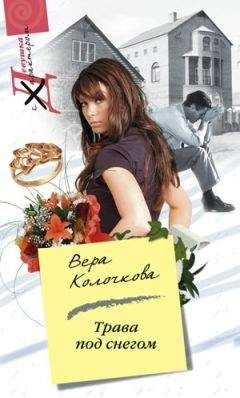Оставаясь в тени, Егор хорошо видел его простецки притворное, насмешливое лицо с маленькими живыми глазками. В засаленном ватнике и в ушанке с задиристо оттопыренным ухом он больше походил на шебутного дворника, чем на командира минно-торпедной боевой части.
— От, хрен моржовый, опять перебил! — и минёр кому-то погрозил налитым, крупным кулаком. — Так, на чём это я?..
— Приходите опять к своей тётке, — с готовностью подсказали ему.
— Ну да, так ведь оно и было, — припоминал Дымарёв, растягивая слова с характерным одесским шармом. — Прихожу, значит, к тетушке Василисе, а она белугой ревет. Я ей — в чём дело, теть Васёна? А она ревака задаёт ещё хлеще и повестку мне из милиции суёт. Нич-чё не понимаю… Ну, кое-как успокоил её. Стал допытываться, что же это такое с ней стряслось на этот раз, отчего она безутешным рёвом своим не то что соседям, а всему кварталу душу на части рвёт. Твердит тетка одно: «Невиноватая я — они же, козлы духмяные, сами ко мне причепились…» — минёр со свистом продул пустой мундштук, который утехи ради всё время держал в зубах. Для чего-то как папиросу помял его в крепких узловатых пальцах и снова прикусил крупными желтоватыми зубами, среди которых поблескивала золотая фикса. — Ну, смекаю, опять по пьянке чего-нибудь отчебучила. Тетушка, как я уже говорил, не дура была выпить. За это ей вся наша родня постоянно мозги прочищала. Да куда там! Баба заводная, хохмачка. Мужики на ней, можно сказать, зубы ломают… Потому как покупаются на ее обманчивой внешности. Бабе уже за пятьдесят перевалило, а фигурка у неё прям как у десятиклассницы — ёлочка, да и только. Но вот стоит ей, скажем, всей своей фотокарточкой к тебе повернуться, так со страху тут же помочишься себе в штаны. Лицо сморщенное, во рту два зуба. Ведьма, да и только! Хотя могу поклясться, что у нас на всей Молдаванке и даже Пересыпи человека добрее не сыскать. — Дымарёв опять выдал затяжную паузу, занимаясь мундштуком и доводя напряженное любопытство всех окружавших его до полного нетерпения.
— Ну?.. Ну и?.. — тотчас заторопили его.
Минёр придал своему грубоватому лицу выражение удовлетворенности, после чего продолжил:
— Расколол всё ж тетку свою, и она мне во всём содеянном как на духу или как перед опером в милиции призналась. А было так… Возвращалась она как-то раз домой, как водится, в лёгком подпитии. Кстати, происходило это около полуночи, летом, когда духота у нас в Одессе такая — ну, хоть топор вешай, — и тут же пояснил. — К примеру, как в отсеке под утро, когда вас перед этим гороховым супом покормят…
С небрежностью истинного одессита, насладившись очередной порцией хохота и при этом не дрогнув на лице ни единым мускулом, Дымарёв снова заговорил:
— А жила тёть Васёна неподалеку от кладбища. Через него и в светлое-то время небезопасно ходить, а уж тем более ночью. Разная там блатная босота промышляла: того и гляди на «гоп стоп» нарвёшься. Но тетке — море по колено. Тот раз возвращалась она позднёхонько из гостей. Трамваем. Как обычно, сошла на последней остановке рядом с кладбищем. А дом её — по другую сторону от него. Ей бы, авоське старой, как всем нормальным людям вкруговую до дома «лаптями шлёпать». Она же покандюхала напрямки, потому как перед этим приняла на душу пару стаканов портвейна и ничего на свете уже не боялась. Опять же в запасе у тётки Васёны всегда оставалась эта самая страшная сила — её «фотография». Идёт себе, значит, по пустой аллее ни шатко — ни валко. А со стороны поглядеть, так прямо русалочка в белом платьице плывёт. Фигурка-то у неё — будь здоров какая! Откуда ни возьмись, подваливают два здоровенных бича. Оба совсем не старые и не слишком подвыпивши — в самый раз, когда на баб тянет. Начинают причаливать. «Девушка, а девушка, — говорит один. — В гости не пригласишь?» Тётка кивает, а сама, естественно, молчит, как рыба об лёд… Тогда второй спрашивает: «Может и подружка у тебя найдётся?» Тётка опять кивает, а сама всё время «фотокарточку» свою в сторону воротит, как бы приберегая этот свой «главный калибр» для решающего залпа. «Стеснительная, — говорит первый. — Я таких люблю» А второй: «Да наверно целка ещё. Разве не видишь? Такую «приласкать», так мороки больше, чем удовольствия…» Первый вразумляет корешка: «Да ладно, и эта на безрыбье сойдёт». И бочком эдак начинает тётку к кустам припирать. «Странная она какая-то, — продолжает сомневаться второй. — Совсем ведь шмакодявка ещё, а в такую поздноту не боится одна по кладбищу шлындать…» А дальше, это ж надо было в Одессе родиться, чтобы такое отчудить… «Когда жива была, тогда и боялась, — не моргнув глазом, как бы между прочим, замечает тётка. — Теперь-то чего уж? — и берёт очень даже нежненько обоих под локоточки. — Так идёмте ж ко мне, сладенькие. Моя могилка совсем рядом: от часовни — сразу же поворотя направо…» Мужикам от таких слов чё-та сразу не по себе стало. А тут ещё луна взошла. Глянули, наконец, на тётушкину физиономию и остолбенели: не то ведьма, не то и впрямь покойница перед ними… Но тётушку совсем уже в раж понесло. «Что же вы, дяденьки? — вроде как обижается и бичей этих к часовне тянет. — Вон и подружка моя из гробика встаёт. Свеженькая ещё, только утречком похоронили… — минёр опять выдержал паузу, сладко почмокав мундштуком. — Надо было видеть, как драпанули бичи. И надо же, один в потёмках споткнулся и череп себе о какую-то плиту раскроил. Другой налетел на него и… ногу сломал».
Отсек содрогнулся.
— Тётка видит, что мужичкам от её заморочки совсем худо, — всё так же невозмутимо излагал свою байку Дымарёв. — Добежала до ближайшей телефонной будки и вызвала скорую помощь. Потом, сердобольная душа, этим ханурикам передачки в больницу носила. Они же, твари неблагодарные, в суд на неё подали, как только выписались, якобы, за причинённое увечье.
— Ну и как, судили её? — не утерпев, спросил кто-то из матросов.
— Как полагается, — подтвердил минер. — Закон есть закон. Только такого весёлого суда в Одессе отродясь не видели. Судья, говорят, под конец не мог уже вопросы задавать — все за живот держался. А оба заседателя — те едва со стульев не падали… Однако, приговорили её, бедолагу, к десяти стукам отсидки, как за мелкое хулиганство. С тех пор тётушка моя, вплоть до скончания дней своих, в популярности могла потягаться, разве что, с самим Дюком Ришелье. Не хочу врать, но на её доме, где жила, собирались даже мемориальную доску повесить.
Согнав с лица невольную улыбку, Непрядов вышел из своего укрытия. Моряки поутихли, расступаясь.
— Я думаю, вывод всем ясен, — сказал Егор, как бы подытоживая. — Не приставайте по ночам на кладбище к незнакомым девушкам, это неприлично.