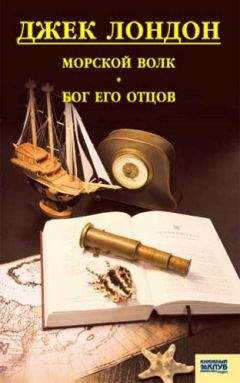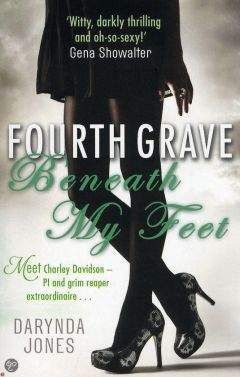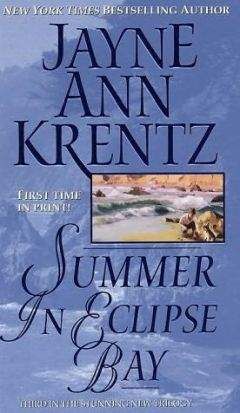Как-то мы набрели в Белом Безмолвии на две странствующие человеческие тени. Это были белые — мужчина и мальчик. Каждый из них имел по одеялу, на котором спал по ночам. У них были небольшие запасы муки, которую они разбавляли водой и пили. Взрослый мужчина сказал мне, что у них осталось только восемь маленьких мерок муки, — между тем до Пелли оставалось не меньше двухсот верст. Он добавил, что следом за ними идет индеец, который, несмотря на получаемый от них ежедневный паек, вдруг начал отставать. Я не поверил им, зная по опыту, что индеец не отстал бы, получай он ежедневный паек, — и не дал им из своих припасов. Они пытались было стащить самую жирную (и однако неописуемо худую) собаку, но я пригрозил им револьвером и приказал убираться подобру-поздорову. Они повиновались и, пошатываясь, точно пьяные, пошли дальше по Стране Белого Безмолвия, по направлению к Пелли.
К тому времени у нас остались лишь три собаки и одни нарты. На собак было больно смотреть: кожа да кости. Известное дело: если мало дров, огонь хилый и в хижине холодно. Нам это было слишком понятно. Провизии осталось совсем мало, — и вследствие этого холод сильнее давал себя чувствовать; мы все до того почернели, что нас, пожалуй, не узнала бы родная мать. Всего больше мучили нас ноги. Я лично по утрам всегда обливался потом от мучительных усилий сдержаться и не закричать от боли. Пассук же по-прежнему шла впереди нас и за все время не издала ни единого стона. А попутчик наш, мужчина, стонал, а временами даже вопил.
На Тридцатой Миле течение отличается большой быстротой, и вот почему там всегда очень много полыний и трещин. Однажды он вышел раньше нас и отдыхал, когда мы подходили к нему. Оказалось однако, что между нами — полынья, которую он успел раньше обойти. Обходя, он так расширил полынью, что для вас оказалось совершенно невозможным перейти через нее. Нам оставалось одно: найти ледяные мостки, что мы и сделали. Перебросили через полынью ледяной мостик, и Пассук, как более легкая, пошла первая; на всякий случай она взяла с собой длинный шест, который держала поперек; но будучи очень легкой, она без всяких усилий, не сняв даже лыж, перешла через полынью. Очутившись на той стороне, она сделала попытку перетащить собак, но у тех не было ни шестов, ни лыж, — и они были унесены быстрым течением. Я сделал все, что от меня зависело, и поддерживал нарты до тех самых пор, пока хватило сил. Конечно, корму в них осталось совсем мало, но все же можно было предполагать, что на неделю хватит. Как бы там ни было, собаки погибли в быстром течении.
На следующее утро я разделил весь жалкий остаток провизии на три равные части, отдал Джеффу его часть и сказал ему, что теперь он может поступать, как ему заблагорассудится. Нарт и поклажи, дескать, у нас уже нет, и мы пойдем вперед легко и быстро. Но он обиженным тоном заговорил с нами совсем не по-товарищески и уже совсем не так, как мы того заслуживали. Он стал жаловаться на боль в ногах, но ведь у нас с Пассук ноги-то не меньше болели. С собаками кто, как не мы, возился? Он вдруг самым решительным образом заявил, что скорее умрет на месте, чем сделает хоть один шаг дальше. Тут Пассук, недолго думая, взяла свои шкуры, я — горшок и топор, и мы двинулись было дальше, но Пассук вдруг взглянула на паек Джеффа и сказала:
— Стоит ли бросать на ветер столько пищи?
Я молчал. Для меня товарищ всегда останется товарищем.
Тут Пассук заговорила о всех тех, кто остался на Сороковой Миле, указала мне на то, что среди них есть очень много людей гораздо более достойных, чем наш попутчик, и напомнила, что все возложили на меня свои последние надежды… Видя, что я по-прежнему молчу, она быстро выхватила из-за моего пояса револьвер — и, как говорится, Джефф преждевременно отправился к праотцам.
Я стал упрекать Пассук, но в данном случае мои слова не оказали на нее ни малейшего действия, и она даже не подумала раскаяться в своем поступке. В глубине души я сознавал, что она безусловно права.
Чарли замолчал и снова стал бросать кусочки льда в горшок с питьевой водой.
Все молчали, и время от времени по их спинам пробегала дрожь от непрестанного воя продрогших на морозе и сетующих на свою судьбу собак.
Чарли продолжал свой рассказ:
— Шли дни за днями, а мы с Пассук, подобно двум слабым теням, пробирались по беспредельной снежной равнине. Всего не расскажешь… Одним словом, стали мы приближаться к Соленым Водам и там только набрели на индейца, который также подобно тени плелся по направлению к Пелли.
Я, конечно, не ошибся, предположив, что белые мужчина и мальчик нечестно делились с ним. Оказалось, что они оставили ему провизии едва-едва на три дня. Покончив с мукой, он стал кормиться мокасинами, но и от мокасин осталось уже немного. Индеец был со взморья и обо всем рассказал Пассук, которая понимала и говорила на его языке. Он до сих пор не бывал на Юконе, совсем не знал дороги и направлялся к Пелли.
— Далеко ли до Пелли? Две ночевки? Может быть, десять? Сто?
Он ничего не знал, кроме того, что идет на Пелли. Возвращаться на родину было невозможно, и оставалось одно: идти вперед.
Он не затрагивал вопроса о пище, так как видел, что и мы нуждаемся. Когда Пассук смотрела на меня и индейца, она напоминала мне птичью самку, чувствующую, что весь ее выводок в смертельной опасности. Я сказал ей следующее:
— Этого человека обманули, и поэтому я дам ему из наших запасов.
На одно мгновение мне почудилась радость в ее глазах, но вдруг она нахмурилась и долго не отводила взора от меня и индейца. Наконец она сказала следующее:
— Нет. До Соленых Вод далеко, а смерть подстерегает нас. Лучше будет, если эта смерть заберет чужого человека и пощадит моего Чарли.
Мы не помогли бедняге, который пошел своей дорогой. А Пассук всю ночь проплакала, и я впервые видел ее плачущей.
«Нет, — подумал я, — тут что-то есть. Не станет она без причины плакать. Нет дыма без огня». Я решил, что она расстроилась под влиянием дорожных бедствий.
Странная, очень странная штука — жизнь. Много я думал об этом, а все же ни к чему не пришел. Чем больше думаю, тем меньше понимаю. И откуда только берется это странное желание жить, — жить во что бы то ни стало! В конце концов, что такое жизнь? Обыкновенная игра, с той лишь особенностью, что в ней никто никогда не выигрывает. Жить — это много работать и так же много страдать, страдать до тех самых пор, пока не подберется противная старость и не бросит нас на холодный пепел потухшего костра. Нет, что там ни говори, а жизнь — тяжелая штука!.. В страдании человек родится, в страдании же испускает последний вздох свой, — и все дни и все часы его исполнены горести и мук. Странное дело: вот смерть уже распахнула свои объятия, а бедный человек все еще борется, обратив взор назад, рвется к жизни. А ведь сама-то смерть приятна! Скверно только одно: жизнь и все живое. И при всем том мы страстно любим жизнь и ненавидим смерть. Странно, очень странно!