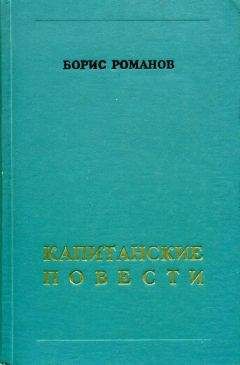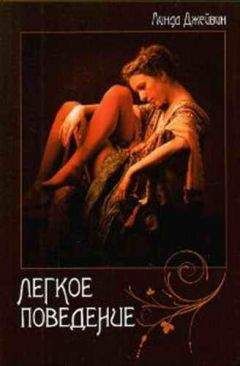Таня смотрела на него до тех пор, пока он этого не почувствовал. Тогда он резко откинул альманах и приподнялся.
— Добрый вечер, Виталий Павлович, — краснея, сказала Таня.
— Здравствуй, Танюша.
Пока он ногами нащупывал сандалеты да искал закладку для книги, она чуть было не выбежала вон, однако Виталий Павлович успел упредить:
— Садись, что же ты стала.
И она опустилась в чуть поодаль стоящее кресло, безотчетно прижимая ладони к щекам.
— Ну, — справился, наконец, с делами Виталий Павлович, — соку хочешь? Ананасный есть. Вина сухого со льдом? Саэро — чудная вещь.
— Нет, нет, что вы, спасибо, Виталий Павлович, не буду.
— Видишь ли, я о нем весь вечер подумывал, да не хотелось в одиночку. Так что ты — кстати. Потерпи минутку.
Он доставал и откупоривал бутылку, разливал вино пополам с водой по тонким стаканам, ловко выдавливал кубики льда из алюминиевой ванночки, включал приемник… а она издалека, словно с того света, разглядывала его начинающую грузнеть фигуру, руки, пучок седины на затылке… твердую улыбку.
— Ну, пить еще не привыкла? — бодро спросил Виталий Павлович, подавая Тане стакан. — Все по конфетам?
Таня начала клонить голову, стакан обжигал пальцы, и тогда капитан тихо и почти торжественно сказал:
— За тебя, Таня.
Склонившись еще ниже, она попробовала отхлебнуть, но слезы со щек закапали в вино, и Виталий Петрович разжал ей пальцы и отнял стакан. Таня поймала его руку и прижалась к ней всем лицом.
— Нельзя этого, Танюша… Ты же умница. Нельзя. Мы с тобой договорились.
— Не могу я без вас, Виталий Павлович. Что же я одна-то?
— Это пройдет, Танюша. Ты поверь. Я тост сейчас говорил — фальшивил, как актер. Ты посмотри, какие мы с тобой разные: для меня веселье — работа, а для тебя и работа — веселье.
— Все равно не могу. Как же мне забыть, забыть, как мы с вами, как я вот тут… плавала…
Виталий Павлович вздохнул, погладил ее свободной рукой по голове.
— Ладно, рева, возьми себя в руки. Успокойся. А то помполит придет — знаешь что нам будет? Или Георгий Васильевич — инструктор… Он в этих вопросах — дока. Ну, будем настоящими мужчинами.
Она затихла, пошмыгала там, у руки, носом и потом пробормотала:
— Он все допытывается, как да что, да не обижаете ли вы меня. Так все и подъезжает…
Она еще помолчала, пофыркала, потерлась лицом о его руку.
— Волоски колются… Вы на меня очень сердитесь, что я к вам на «Валдай» вернулась?
— Я не сержусь, хотя в не надо было этого делать, — ответил Виталий Павлович и высвободил руку.
— Я и сама знаю… Разве у меня сил хватит на вас, на такого? Я давно догадалась, что вы хозяин жизни… Только ничего не могу с собой поделать…
И она заплакала снова.
— Ну, послушай меня внимательно. Все, что было, — все было честно, по крайней мере по отношению к тебе. Однако, какой бы я ни был, я никогда не буду раздваиваться. Ты же меня первая уважать перестанешь. Все в этом.
Виталий Павлович добавил громкости на приемнике, приоткрыл дверь в коридор и поставил ее на вентиляционный крючок.
— Ну, плакса, сходи-ка сполосни глазки холодной водой. Чистое полотенце слева, голубое, — он легонько потрепал ее за ухо. — Сходи, я тебе заново воды с вином сделаю. А это выплесни в раковину.
Пока Таня умывалась в ванной, он приготовил новую порцию тропического коктейля, добавив к вину и воде со льдом ананасный сок, потушил верхний свет, подошел к бортовому окну. Ночной океан слабо шумел за стеклом, светлело звездами небо, и горизонт терялся в едва ощутимых облачках. Трудно было вглядываться в ночь.
Зазвонил телефон, и третий штурман с мостика завопил в трубке:
— Говорю, слева стрельба какая-то!
— Спокойнее. Стрельба?
— Да нет, говорю, какие-то вспышки!
— Далеко?
— Да нет, на самом горизонте или даже еще дальше!
— Хорошо, я сейчас поднимусь.
Вышла из ванной Таня. Лицо у нее осталось заплаканным.
— Меня на мостик вызывают. Давай на прощание — и все-таки за тебя!
— Всего вам доброго! — с отчаянием сказала она и выпила коктейль залпом, отталкивая губами кусочки льда.
Виталий Павлович отставил стакан и взялся за дверь. Проскальзывая мимо него, она на одном дыхании, шепотом, быстро проговорила:
— Я тебя все равно всю жизнь любить буду!
Они на цыпочках прошли мимо открытой двери соседней каюты, где на диване спокойно спал инструктор Георгий Васильевич Охрипчик.
Когда подолгу плаваешь, особенно в трампе, то есть не на одной линии, а так, куда заведет спрос на судно, когда много плаваешь, Земля в целом становится меньше, а Родина — больше. Все рядом, куда угодно рукой подать, но вот до Родины не дотянуться, потому что дело тебя гоняет из угла в угол Мирового океана, Земля все меньше, а Родина — все больше, пока, наконец, не займет столько места, что ничего больше в душу не втиснешь, кроме тоски по ней.
Приходилось встречать людей, сбежавших от России, и некоторых из них было жалко: какие они иностранцы, к черту, с их-то русским чувством кровной земной связи! Но они там, а мы тут, и все мы перед ними русские, кто на борту: и русские, и белорусы, и литовец второй механик, и рыжий армянин Серго Авакян, и Коля Кравченко, Граф, щирый казак.
…После рейса на Кубу мы с табаком и сахаром-сырцом — по два трюма того-другого — пришли в Таллин.
Едва мы ошвартовались в Купеческой гавани и приходная комиссия закончила работу, выяснилось, что разгрузка будет нескорой, и Андрей Иванович предложил съездить на пару дней в подшефный нам районный городок Валдай, благо от Таллина до него пустяк и ходит прямой московский поезд. Дали в горсовет предупредительную телеграмму, и финансирование поездки решилось просто, поскольку Георгий Васильевич Охрипчик пожелал в ней принять участие и тут же все согласовал по телефону.
Наутро на собрании стали выбирать делегацию и сразу безоговорочно проголосовали за Андрея Ивановича и, конечно, за Федю Крюкова. Попал и я. Когда Андрей Иванович предложил взять еще Мисикова, поднялся шум.
— Товарищи, — сказал Андрей Иванович, — Мисиков не лучший из вас. Но не будем же мы ему припоминать все события трехмесячной давности! На Кубе и на обратном переходе он вел себя нормально. А как он играл в волейбол с киприотами за нашу команду! Кроме того, он представитель последнего пополнения нашего экипажа и многие на него оглядываются из молодежи. Так пусть же ему будет втройне стыдно: и перед собой, и перед нами, и перед тем, чьим именем назван наш теплоход, если он когда-нибудь подведет!