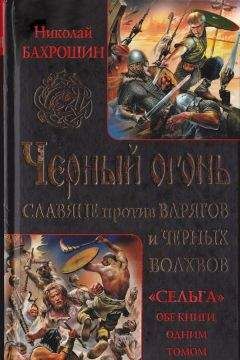— Дедушка, видать, дуется на нас, — сказала старшая дочь Таруотера, Мери, сама уже бабушка, когда отец бросил курить.
Старик оставил себе только пару старых кляч, таратайку и свою отдельную комнатку в переполненном доме. Больше того, заявив, что не желает быть ничем обязанным детям, он подрядился дважды в неделю возить почту из Кельтервила через гору Таруотер в Старый Альмаден, где в нагорном скотоводческом районе находились ртутные разработки. На своих клячах ему только-только хватало времени обернуться. И десять лет кряду, и в дождь и в ведро, он исправно дважды в неделю доставлял почту. Столь же аккуратно каждую субботу вручал он Мери деньги за стол. Отделавшись от патагонской горячки, он настоял на том, чтобы платить за свое содержание, и пунктуальнейшим образом вносил деньги, хотя для этого ему пришлось отказаться от табака.
Мысли свои на этот счет старик поверял только ветхому колесу старой таруотерской мельницы, которую он собственноручно поставил из росшего здесь мачтового леса. Она молола пшеницу еще для первых поселенцев.
— Э-э! — говорил он. — Пока я сам себя могу прокормить, они не упрячут меня в богадельню. А раз у меня теперь нет ни гроша, никакой мошенник-адвокат не пожалует сюда по мою душу.
И вот, поди ж ты, за эти именно весьма разумные поступки Джона Таруотера стали почитать в округе полоумным!
Впервые он запел «Как аргонавты в старину» весной 1849 года, когда, двадцати двух лет от роду, заболев калифорнийской горячкой, продал двести сорок акров земли в Мичигане, из которых сорок уже были расчищены, на все вырученные деньги купил четыре пары волов и фургон и пустился в путь через прерии.
— В Форте Холл мы разделились: часть переселенцев повернула на север к Орегону, а мы двинулись на юг, в Калифорнию, — так он неизменно заканчивал свой рассказ об этом тяжелом переходе. — И в долине Сакраменто, где Каш Слу, мы с Биллом Пингом в кустарниках ловили арканом серых медведей.
Долгие годы он занимался извозом, промывал золото, пока наконец за деньги, вырученные от продажи своей доли в прииске Мерсед, не обосновался в округе Сонома, удовлетворив таким образом присущую веку и унаследованную от отцов и дедов ненасытную жадность к земле.
Все десять лет, что старик развозил почту в Таруотерском районе, вверх по долине реки Таруотер и через Таруотерский хребет — территория, некогда почти целиком входившая в его владения, — он мечтал вернуть эти земли, прежде чем ляжет в могилу. И вот теперь, распрямив согбенное годами большое костлявое тело, с вдохновенным пламенем в крохотных, 'близко посаженных глазках, старик опять запел во все горло свою старую песню.
— Ишь, заливается… слышите? — сказал Уильям Таруотер.
— Совсем спятил старик, — посмеялся поденщик Хэррис Топпинг, муж Энни Таруотер и отец ее девятерых детей.
Дверь отворилась, и на пороге кухни показался дедушка Таруотер; он ходил задать корм лошадям. Песнь оборвалась, но Мери была в тот день не в духе, потому что обварила себе руку, и потому, что внучонка, которого начали прикармливать разбавленным по всем правилам коровьим молоком, слабило.
— Пой не пой, ничего у тебя не выйдет, отец, — накинулась она на старика. — Прошло времечко, когда ты мог очертя голову скакать в какой-нибудь Клондайк, пением-то ведь сыт не будешь.
— А я вот голову даю не отсечение, что добрался бы до Клондайка и накопал столько золота, что хватило бы выкупить таруотерскую землю, — спокойно возразил он.
— Старый дуралей! — буркнула себе под нос Энни.
— Меньше чем за триста тысяч да еще с лишком ее не выкупишь, — пытался образумить отца Уильям.
— Вот я и добыл бы триста да еще с лишком, только бы мне туда попасть,
— невозмутимо возразил дедушка Таруотер.
— Слава богу, что туда не дойти пешком, а то вмиг бы отправился, знаю я тебя, — крикнула Мери. — Ну, а пароходом стоит денег.
— Когда-то у меня были деньги, — смиренно заметил старик.
— А теперь у тебя их нет, так что и толковать не о чем, — сказал Уильям. — Прошло то времечко. Когда-то ты с Биллом Пингом медведей арканом ловил. А теперь и медведи все перевелись.
— Все равно…
Но Мери не дала ему договорить. Схватив с кухонного стола газету, она яростно потрясла ею перед самым носом своего престарелого родителя.
— А ты читал, что рассказывают тамошние золотоискатели? Вот оно черным по белому написано. Только молодые да сильные выдерживают. На Клондайке хуже, чем на Северном полюсе Сколько их там погибло! Взгляни-ка на портреты. А ты лет на сорок старше самого старого из них.
Джон Таруотер взглянул, но сейчас же уставился на другие снимки на той же испещренной кричащими заголовками первой странице.
— А ты взгляни, какие они оттуда самородки привезли, — сказал он. — Уж я-то знаю толк в золоте. Худо-бедно, двадцать тысяч добыл из Мерседы? Кабы ливень не прорвал мою запруду, так и все бы сто добыл. Попасть бы только в Клондайк…
— Как есть рехнулся, — чуть ли не в глаза старику бросил Уильям.
— Это ты про отца родного! — мягко пожурил его старик Таруотер. — Посмел бы я сказать такое твоему деду, он бы мне все кости переломал вальком.
— Да ты и в самом деле рехнулся… — начал было Уильям.
— Может, ты и прав, сынок. А вот дед твой, тот был в здравом уме и не потерпел бы такого.
— Дедушка, видно, начитался в журналах про людей, которые разбогатели, когда им уже за сорок перевалило, — с насмешкой сказала Энни.
— А почему бы и нет, доченька? — возразил старик. — Почему бы человеку и после семидесяти не разбогатеть? Мне-то семьдесят ведь только нынешний год стукнуло. Может, я бы и разбогател, кабы в этот самый Клондайк попал.
— Так ты туда и не попадешь, — срезала его Мери.
— Ну что же, нет так нет, — вздохнул он, — а раз так, можно, пожалуй, и на боковую.
Старик встал из-за стола, высокий, тощий, мослатый и корявый, как старый дуб, — величественная развалина крепкого и могучего когда-то мужчины. Косматые волосы и борода его были не седые, а белоснежные, на огромных узловатых пальцах торчали пучки белой щетины. Он пошел к двери, отворил ее, вздохнул и остановился, оглядываясь на сидящих.
— А все-таки ноги у меня так и зудят, так и зудят, — пробормотал он жалобно.
На следующее утро дедушка Таруотер, засветив фонарь, покормил и запряг лошадей, сам позавтракал при свете лампы и, когда все еще в доме спали, уже трясся вдоль речки Таруотер по дороге в Кельтервил. Два обстоятельства были необычны в этой обычной поездке, которую он проделал тысячу сорок раз с тех пор, как подрядился возить почту. Первое то, что, выехав на шос се, старик повернул не к Кельтервилу, а на юг, к Санта-Роса. А второе — что уже и вовсе странно — у него был зажат между коленями бумажный сверток. В свертке находилась его единственная еще приличная черная пара, которую Мери давно уже не приказывала ему надевать, не оттого, как догадывался он, что сюртук очень обносился, а потому, что дочь считала одежду достаточно еще приличной, чтобы отца в ней похоронить.