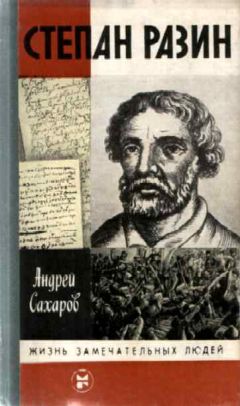И. Наживин, 1928 г., ПарижI. На верху у великого государя
Шло лето от сотворения мира 7175-е, от Рождества Христова 1667-е, благополучного же царствования великого государя всея России Алексея Михайловича двадцать второе. На высокой колокольне Ивана Великого, возведённой ещё в годы народного бедствия и скудости заботливым царем Борисом Фёдоровичем Годуновым, пробило только четыре часа, а Москва златоглавая, вся в лучах восхода розовая, уже жила полною жизнью: как всегда, оглушительно шумели торги, купцы зазывали в свои лавки покупателей тароватых, с барабанным боем прошёл куда-то стрелецкий приказ, на страшное Козье болото, за реку, провезли на телеге на казнь каких-то воров, попы звонили к заутрене, по Москве-реке тянулись куда-то барки тяжёлые. И бесчисленные голуби, весело треща крыльями, носились над площадями…
Проснулся и кремлёвский дворец, прежний, старый, деревянный, в котором, не любя каменных хором, жил великий государь. Спальники, стольники, стряпчие, жильцы озабоченно носились туда и сюда по своим придворным делам; на Спальном крыльце уже томились просители; сменялся стрелецкий караул; сенные девушки, на половине царицы, с испуганными лицами бегали по дворцовым переходам со всякими нарядами для государыни и для царевен. Две успели уже поссориться, и боярыня-судия уже чинила над ними суд и расправу… А в опочивальне царской, низкой, душной комнате, со стенами, покрытыми тёмной тиснёной кожей, и потолком сводчатым, расписанным травами, постельничий с помощью постельников и стряпчих одевал великого государя. Было Алексею Михайловичу об эту пору только под сорок, но он уже обложился жирком и было в этом круглом, опушённом небольшой тёмной и курчавой бородкой лице, в этих мягких и ясных глазах и во всей этой фигуре что-то мягкое, ласковое, бабье. Он умылся, старательно причесался и прошёл в соседнюю Крестовую палату, всю сияющую огнями, золотом и камнями драгоценными бесчисленных икон. Там уже ждал его духовник царский, или крестовый поп, крестовые дьяки и несколько человек из ближних бояр. Поп благословил хорошо выспавшегося и потому благодушного царя, он приложился ко кресту и началась утренняя молитва. Алексей Михайлович истово повторял привычные, красивые, торжественные слова, – помолиться он любил, – а мягкие глаза его с удовольствием оглядывали привычную, милую его душе обстановку моленной.[1]
Вот около иконостаса стоят золотые ковчежцы, а в них бережно хранятся смирна, ливан, меры Гроба Господня, свечи, которые сами собой зажглись в Иерусалиме от небесного огня в день Светлого Воскресения, зуб святого Антония, часть камня, павшего с неба, камень от Голгофы, камень от столпа, около которого Христос был мучим, камень из Гефсимании, где Он молился, камень от Гроба Господня, песок иорданский, частица дуба мамврийского. Рядом с ковчежцами стояли чудотворные меда монастырские в баночках, восковой сосуд с водой Иордана и от разных чудотворных икон со всех концов России, которою крестовый поп кропил царя и его близких. А вот последняя икона знаменитого иконописца Семёна Ушакова «О Тебе радуется…», – ах, и красносмотрительно же пишет этот Ушаков!.. Такого иконописца, может, на всю Россию ещё нет…
А молитва – она шла всего четверть часа – уже кончена, и царь, приняв благословение, вышел из очень жаркой от огней и молящихся моленной в прохладные сени и с удовольствием вздохнул.
– Ну-ка, ты, Соковнин, сбегай-ка в хоромы к царице– обратился он к одному из молодых приближённых, – Узнай, как она почивала…
Но царица Марья Ильинишна уже поджидала своего супруга в своей передней. Они ласково поздоровались, царь любовно оглядел свою молодёжь, и уже все вместе они отправились в домовую церковь, чтобы отстоять заутреню и раннюю обедню, причем молодые царевны все и царевичи стали в особенно укромном уголке, где их не мог видеть никто. Опять хорошо, со вкусом, помолились и все прошли в столовый покой, где подкрепились – кто сбитнем горячим с калачом, а кто взваром клюквенным или малиновым…
Между тем в передней царской уже собирались бояре, окольничие и разные ближние люди ударить челом государю. И едва вышел он в переднюю, как все бывшие там, знатнейшие люди царства Московского, поклонились царю в землю. Те, которые благодарили за какую-нибудь особую милость, часто кланялись так по тридцати раз подряд. Но царь никогда и шапки «против их боярского поклонения» не снимал – он всегда, и в покоях, ходил в царской шапке… Довольные, что увидели пресветлые царские очи, бояре окружили царя: авось обласкает он кого и словом своим царским…
В эту минуту ко двору царскому на двенадцати аргамаках, увешанных цепями гремячими, в золотом украшенной карете, вокруг которой бежало до двухсот скороходов и слуг всяких, подкатил кто-то.
– А, боярыня Федосья Прокофьевна!.. – улыбнулся Алексей Михайлович. – Никогда к поздней и минуты не опоздает…
Действительно, то была боярыня именитая Федосья Прокофьевна Морозова, самый близкий друг царицы Марьи Ильинишны, ещё молодая и чрезвычайно богатая вдова. Каждое утро она ездила так во дворец, чтобы отстоять вместе с царицей позднюю обедню.
– Ну, значит, и нам пора… – сказал государь и снова вместе со всеми боярами направился в домовую церковь к обедне.
– А я опять грамотку от страдальца нашего получила… – поздоровавшись с царицей, проговорила боярыня Федосья Прокофьевна, полная, бойкая женщина с круглым, миловидным лицом, намазанным румянами и белилами по тогдашней моде так, что глаза резало.
Ей и самой претило это мазанье, но не подчиниться моде и у неё, женщины исключительного характера, не хватало силы: когда тоже знатная боярыня княгиня Черкасская вздумала было перестать краситься, в обществе московском поднялся такой шум, что должен был вмешаться в дело сам великий государь и принудить боярыню подчиниться обычаю.
– Что же он, родимый, пишет? – участливо спросила царица, невысокого роста, очень полная женщина, похожая уже скорее на перину. – Как-то ему там, в Пустозёрске-то?
Речь шла о недавно сосланном в Пустозёрск вожде раскола протопопе Аввакуме, горячими поклонницами которого были обе – и царица, и боярыня.
– Да о себе-то мало пишет он… – сказала боярыня. – Всё больше о вере поучает… Очень он осуждает эти наши новые иконы. Ему любо, чтобы писали по-старинному, смугло и темновидно… Да вот, прочитаю я тебе, послушай… – сказала она и, достав грамоту из кармана, отыскала нужное место и медленно, по складам, начала:
– Вот. «По попущению Божию умножились в нашей русской земле живописцы неподобнаго письма иконнаго. Пишут они Спасов образ Емануила, лицо одутловато, уста червонныя, власы кудрявые, руки и мышцы толстыя, персты надутые, также и у ног бедра толстыя и весь яко немчин: только что сабли при бедре не написано…» Видишь, государыня…
– Ох, уж и не знаю как… – вздохнула простоватая Марья Ильинишна. – Кабыть не нашего бабьего ума дело…
– А тут у меня странный человек один был, так рассказывал, как его, протопопа, в ссылку-то гнали… – продолжала боярыня. – Господи, уж и мучили же человека!.. Идут, идут оба со старухой-то, упадут, а подняться-то силушки нету, так измучились. И взмолится протопопица: долго ли мука сея, протопоп, будет? А страдалец и отвечает: до самой смерти, Марковна… А она, слёзы глотая, говорит: добро, Петрович, ино ещё побредём… – На глазах боярыни выступили слёзы. – Что только делают за истинную-то веру!.. В темницах давят, в срубах жгут, языки режут… И все тот, сын диавол, Никон натворил… Помирать вот буду и то ему не прощу…
– Государь в храм прошёл… – сказала маленькая и бойкая Софья, средняя дочь царицы. – Пойдём, матушка…
И все снова пошли в свой тайничок, откуда им было молящихся видно, а их – никому.
– Благослови, владыко… – бархатными волнами понеслось по храму.
И обедня началась…
И её царь и все приближённые отстояли так же легко, как и всякую другую службу: так день их шёл всегда, привыкли.
После обедни начался деловой день великого государя. Бояре снова прошли в приемную и в ожидании государя тихонько переговаривались. Но вот два стольника внесли в покой резное кресло и поставили его в углу на возвышении из трёх ступенек, обитых красным сукном. За стольниками вышли стряпчие: один нёс круглый, шитый шелками бархатный ковёр, другой атласную подушку, а третий вынес на серебряном блюде расшитый царский убрус.[2] И все стали по бокам царского кресла. Минуту спустя вышел Алексей Михайлович, поддерживаемый под руки двумя боярами. В руках его был длинный чёрный посох. Едва появился он на пороге, как все бояре и чины ударили низкий поклон, царь ответил ласковым поклоном и сел на свое место.
– Здрав буди, великий государь… – снова били челом бояре.