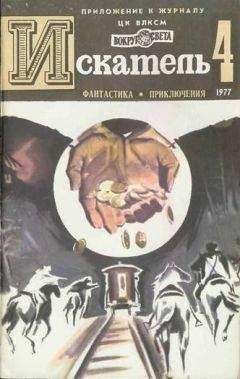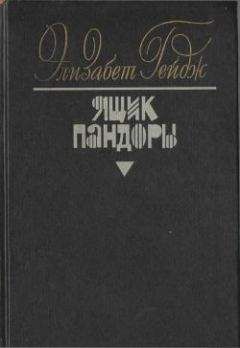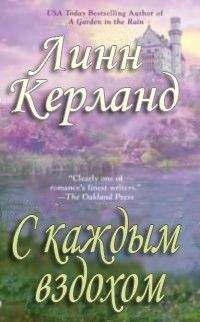Все было, по сути, готово еще утром, так что день ушел на отдых, баню, разговоры да отработку всяческих мелочей и случайностей, которые могли приключиться в дороге. Это Михеев настоял, чтоб выехали в ночь. Сейчас, убеждал он, пора самых рождественских морозов, никого палкой на улицу не выгонишь. И бандитам, если они не идиоты, а они наверняка не идиоты, и в голову не придет выходить из своего логова на большую дорогу, ловить проезжих. Народ в уездах пуганый. Днем еще куда ни шло — от села до села доберутся. Но ночью… Дураков и сумасшедших нет.
Однако ехали без лишнего шума, гуськом тянулись, друг за другом, согревая под теплыми полушубками на груди верные свои кольты и маузеры. От греха, чем черт не шутит.
Сибирцев смотрел на убегающую из-под полозьев дорогу. Далеко позади, в распадке между сопок, низко над горизонтом стояла яркая, неизвестная ему звезда. Переливалась, искрилась. И был свет ее мерцающим и печальным, напоминающим что-то забытое, может быть, чужие звезды Маньчжурии, а может, еще более давнее, довоенное, студенческое. Ту единственную, с отчаянными цыганскими глазами и нежную, словно полевой вьюнок повилика. Как теперь далеко все это… Лучше не думать, не помнить.
Закряхтел переворачиваясь с боку на бок, Михеев, плотнее привалился к спине Сибирцева.
— Так что было после Яши? — негромко спросил Сибирцев.
Яшу Сивачева взяли неожиданно. Где-то был промах. И Михеев и Сибирцев знали твердо: одно сказанное слово — и крышка всем. Несчетные дни и ночи жили как на вулкане, готовые к аресту, пыткам, жестокой смерти. Сибирцеву была хорошо известна семеновская контрразведка: бывшие сыщики и жандармы, озлобленные авантюристы, развратники, изощренные насильники- грязные отбросы развалившейся царской охранки, не моргнув глазом отсылавшие людей на виселицу ради любой денежной или иной награды. Мертвый мог бы заговорить в их руках. А Яша молчал. Потом Сибирцев присутствовал при его расстреле. Он должен был присутствовать: у него не было другого выхода.
Нет, внешне Сибирцев не изменился, может быть, жестче обозначилась тогда морщина на лбу, над переносицей. Да вот и все, А позже пришел и ему приказ: немедленно уходить. Михеев выстроил удобную версию, совпавшую с затянувшимися апрельскими боями под Читой, и Сибирцев ушел. А Михеев остался…
Что было после Яши?…
В мае двадцатого РСФСР признала верхнеудинское правительство, и встал вопрос об объединении всего Дальневосточного края. Среди японцев это сообщение вызвало переполох. Единственный расчет оставался на Семенова, на его забайкальские владения, на то, что будущее единое правительство Дальнего Востока оставит Семенова хотя бы атаманом казачьих войск Забайкалья. В противном случае Япония снимает с себя всякую ответственность за прекращение гражданской войны. Одновременно японский генерал Оой отдал приказ готовить немедленное наступление на Амурскую область, на Хабаровск. И в этот самый момент во Владивостоке было опубликовано воззвание, где полностью и со всеми подробностями излагались планы японского командования. Взрыв бомбы произвел бы меньший эффект. Представители дипломатических консульств взяли японцев, что называется, за горло, требуя объяснений по поводу их территориальных притязаний. Начальник японской дипломатической миссии при штабе экспедиционных войск граф Мацудайра вынужден был официально заверить союзников, что Япония никаких захватов делать не собирается. Была перехвачена телеграмма генерала Ооя: «Все наши планы становятся известными. Коммунисты имеют о наших планах документы… По приказу военминистра в Хабаровск подкреплений послано не будет…»
Теперь уходил и Михеев. Уходил, жалея, что мало сделал. Уходил так, чтобы можно было вернуться, потому что он был уверен: его уход — это передышка…
Перед восходом солнца показалось село Петровское, небольшое, с десяток захудалых изб, сбежавшихся к лесной опушке. Вековые мохнатые кедры сгибались под тяжестью голубых снежных папах. Вились редкие дымки над крышами, где-то в глубине дворов, за низкими оградами брехала собака.
Здесь намечалась первая дневка. И отсюда «таежный телеграф», по всей вероятности, должен был разнести по округе, что едут губкомщики, ищут брошенное оружие, собирают молодежь и произносят зажигательные речи, призывая служить в Красной Армии. Слух побежит впереди, от села к селу, от заимки к заимке, дойдет и до штабс-капитана Дыбы. И тот, зная, что губкомщики хорошо вооружены, но пока особой опасности не представляют, пожалуй, не решится напасть. Будет выжидать и просматриваться. Лазутчиков подбросит, это уж как пить дать. Этих надо выявлять, но упаси боже пальцем тронуть. Днем по трое будут разъезжаться по ближним селам, а к вечеру общий сбор — и дальше к Баргузину. Главная работа там. Все же остальное хоть и необходимое, — для отвода глаз. И знают об этом только трое, для остальных — привычное дело.
На краю села жил одинокий дед Игнат. К нему с молчаливого согласия Михеева и поворотил сани Жилин. Изба низкая, темная, конопаченная седым мхом, половину ее занимала печь. У квадратного окна с крестообразней рамой — простой струганый стол и широкая лавка вдоль стены. Вот, пожалуй, и все убранство. Так живут старые бобыли, скромно, ничего лишнего. Но дух! Переступив высокий порожек, Сибирцев словно окунулся в полдневную жару только что скошенного июньского луга. Пучки трав были развешаны по всем стенам. Это они источали нежный, чуть дурманящий аромат.
Разделись, в одних шерстяных носках прошли по темному мытому полу, расселись на лавке. Сам дед, похожий на замшелую корягу, хлопотал у печки, гремя заслонкой. Жилин был, видимо, знаком с ним, потому что чувствовал себя свободно. Разоблачившись до нательной рубахи, он лишился было своей звероватости, кабы не эта разбойничья борода. Михеев еще в пути заметил Сибирцеву, что под этой бородой Жилин прячет страшные шрамы, оставшиеся после бесед со штабс-капитаном Черепановым. Приглядываясь к Жилину, Сибирцев начинал испытывать к нему теплое чувство приязни.
Михеев вышел во двор проверить, как разместились хлопцы, позаботился об охране и вернулся с Сотниковым. После морозной бессонной ночи, долгой дороги тот держался молодцом.
Дед Игнат вынул из-за печки бутылку прозрачного самогона, выпил по стопке с Жилиным, остальные отказались. Просто закусили жестковатым темным мясом, похрустели луковицей. Сибирцев, спросив разрешения у деда, затянулся самокруткой, но закашлялся и погасил ее. Наконец, побросав на пол полушубки, они растянулись, широко зевая и испытывая при этом невыразимое блаженство.
Спали недолго. Открыв глаза, Сибирцев увидел в окошке яркое солнце. Бубнили о чем-то старик с Жилиным, сидящие у стола. Негромкий монотонный разговор сперва не привлек внимания Сибирцева, потом стали различаться отдельные слова, и он прислушался. Сообразил, что речь шла о банде. В начале зимы налетела она на Гремячинскую, перестреляла активистов. Надругались, а после покидали в прорубь привезенных с собой молоденьких девушек — не то учительниц, не то еще кого, перепороли на площади баб, взятых по какому-то списку, и ускакали. А командовал ими, говорили, такой чернявый, с усами. Красивый собой. Вроде бы из колчаковских — в английском сукне и с плеткой.