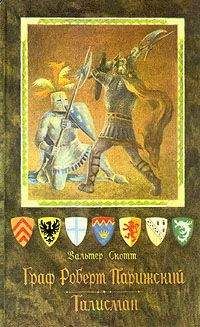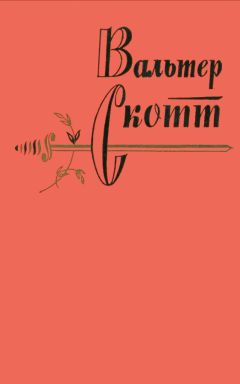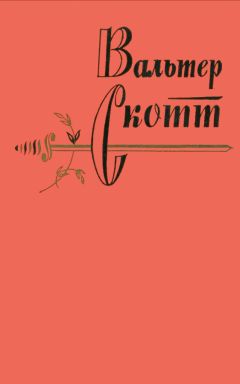— Как твой больной, Дубан? — спросил Алексей. — Для Греческой империи очень важно, чтобы он чувствовал себя не очень слабым сегодня.
— Все идет хорошо, государь, отменно хорошо; если его сейчас не беспокоить, ручаюсь всем своим ничтожным искусством, что, с помощью средств врачевания, природа восторжествует над сыростью и затхлостью зловонной темницы. Только будь осторожен, государь, не торопись, не заставляй Урсела присутствовать на поединке до того, как он приведет в порядок свои расстроенные мысли и вернет силу рассудку и мышцам.
— Постараюсь обуздать свое нетерпение, — ответил император, — или, вернее, ты будешь обуздывать меня, Дубан. Как ты думаешь, он проснулся?
— Вероятно; но он не открывает глаз и, как мне кажется, противится естественному побуждению встать и оглядеться вокруг.
— Заговори с ним, — приказал император, — и скажи нам, о чем он думает.
— Это, конечно, опасно, но я не смею противиться твоей воле. Урсел! — произнес лекарь, подойдя к постели слепого. — Урсел! Урсел! — громче повторил он.
— Т-сс! Т-сс! — пробормотал больной. — Не нарушай блаженных видений, не напоминай несчастнейшему из смертных, что он должен испить до дна чашу горестей, которую судьба заставила его пригубить.
— Еще, еще, — шепнул Дубану император, — попробуй еще раз; мне важно знать, в какой мере он владеет разумом или в какой степени его утратил!
— Но мне не хотелось бы проявлять неуместную и пагубную поспешность, государь: ведь он может по моей вине полностью потерять рассудок и либо опять впасть в безумие, либо оцепенеть, и на сей раз надолго.
— Этого, я, конечно, не требую, — сказал император. — Я обращаюсь к тебе как христианин к христианину и хочу, чтобы мне повиновались лишь в соответствии с божескими и человеческими законами!
Сделав столь торжественное заявление, он умолк, но уже через несколько минут снова стал требовать от Дубана, чтобы тот продолжил свои расспросы.
— Если ты считаешь, государь, что я не в состоянии сам решать, как надобно лечить больного, — сказал Дубан, возгордившись доверием, которое ему вынуждены были оказать, — бери всю ответственность и все хлопоты на себя.
— И возьму, конечно! — ответил император. — Можно ли считаться с опасениями лекарей, когда на чашу весов положены судьба государства и жизнь монарха! Встань, благородный Урсел! Прислушайся к голосу, который был тебе некогда хорошо знаком; этот голос снова призывает тебя к славе и власти!
Оглянись вокруг, посмотри, с какой радостной улыбкой приветствует мир твое возвращение из темницы к кормилу государства!
— О коварный дьявол! — воскликнул Урсел. — На какие низкие уловки ты идешь, чтобы умножить горести несчастного! Знай, искуситель, что тебе не удалось обмануть меня утешительными видениями минувшей ночи — ванной, ложем, всей твоей райской обителью. Нет, скорее тебе удастся рассмешить святого Антония-пустынника, чем заставить мои уста растянуться в улыбке, подобающей лишь тому, кто предан земным утехам!
— И все-таки встань, глупец, — настаивал император. — Твои чувства сами подтвердят существование окружающих тебя благ; а если ты будешь упорствовать в своем неверии, подожди немного, и я приведу с собой существо несравненной прелести, — стоит вернуть тебе зрение хотя бы для того, чтобы ты мог бросить на эту женщину один-единственный взгляд!
С этими словами он вышел из комнаты.
— Предатель, закоренелый обманщик, не веди сюда никого! — взмолился Урсел. — Не пытайся с помощью призрачной, неземной красоты продлить иллюзию, которая на время позолотила стены моей темницы — для того, вероятно, чтобы погасить во мне последнюю искру рассудка, а затем сменить земной ад на заточение в самом пекле!
«Он, конечно, в какой-то степени повредился в рассудке, — подумал лекарь. — Это часто случается после длительного одиночного заключения. Неужели императору удастся добиться какой-то разумной услуги от человека, так долго пробывшего в этой ужасной темнице?» — Стало быть, ты считаешь, — продолжал он вслух, обращаясь к больному, — что твое вчерашнее освобождение, ванна, все освежающие средства были лишь обманчивым сновидением, а не действительностью?
— Как же может быть иначе? — ответил Урсел.
— Ты боишься, что если, вняв нашим просьбам, ты поднимешься с ложа, то тем самым уступишь напрасному искушению и проснешься потом еще более несчастным, чем прежде?
— Разумеется, — подтвердил больной.
— Что же ты тогда думаешь об императоре, по чьему приказу ты перенес такие тяжкие лишения?
Дубан, возможно, пожалел об этом вопросе, ибо в ту минуту, как он его задал, дверь открылась и в комнату вошел император, ведя под руку свою дочь, одетую просто, но с надлежащим великолепием. Она успела за это время переодеться в белое одеяние, наподобие траурного; главным украшением его была цепь, усеянная бесценными алмазами, которой были перевиты и связаны ее длинные черные косы, доходившие до пояса. Отец застал ее, насмерть испуганную, в обществе кесаря и матери; громовым голосом он одновременно приказал варягам взять под стражу Вриенния, как подозреваемого в измене преступника, а царевне — сопровождать его в спальню Урсела, где она теперь и стояла, полная решимости до последней возможности оказывать поддержку гибнущему мужу, не пытаясь, однако, просить или протестовать до тех пор, пока ей не станет ясно, насколько тверда и неколебима позиция, которую занял ее отец. Впрочем, как бы поспешно ни были составлены планы Алексея, которые так же быстро могли быть расстроены каким-нибудь неожиданным событием, трудно было надеяться, что он согласится сделать то, о чем мечтали обе женщины, то есть простить виновного Никифора Вриенния.
К своему удивлению, а может быть, и неудовольствию, император обнаружил, что больной вместе с лекарем занят обсуждением его собственной особы.
— Не думай, что, хоть я и заточен в этой темнице и со мной обращаются хуже, чем с последним отщепенцем, — отвечал лекарю Урсел, — хоть я к тому же лишен зрения, этого драгоценного дара небес, и терплю все страдания по воле жестокосердого Алексея, не думай, повторяю, что я считаю его своим врагом; напротив, благодаря ему бедный ослепленный узник научился искать свободы, куда менее ограниченной, чем та, которая существует в нашем жалком мире, и обнимать взором большие горизонты, чем те, что виднеются с высочайших гор по эту сторону могилы. Так неужели я буду причислять императора к своим врагам? Того, кто открыл мне тщету всего земного, ничтожество земных наслаждений и подарил чистую надежду на лучший мир взамен всех бедствий сей юдоли? Нет, конечно!