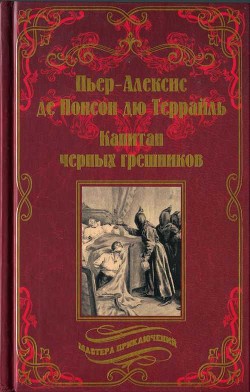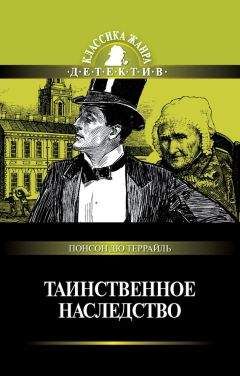XI
Теперь вернемся в дом паромщика Симона Барталэ.
Мы помним, что в прошлую ночь он не ложился.
Симон как раз собирался поспать, когда в дверь постучали Стрелец с Коробейником, повстречавшиеся по дороге и вместе дошедшие до перевоза. А там он с ними проболтал до утра, конечно, не подозревая, сколько важного выболтал мнимому коробейнику.
Так что Симон был сонный, усталый, в первом часу ночи скудно поужинал, а потом уселся у камелька и тут же уснул. Хотя Симон был паромщиком, в нем что-то было от кучера дилижанса, который передает вожжи форейтору, а сам засыпает.
За тридцать шагов до станции кучер машинально просыпается, вылезает из кареты, стучится в дверь, перепрягает лошадей и опять засыпает до следующей станции.
Так и Симон.
В дурное время года на пароме Мирабо почти никого не бывало, кроме дилижансов. Тот, что ехал из Экса наверх, в Альпы, проходил часов в десять-одиннадцать вечера, обратный дилижанс — незадолго до рассвета.
Поэтому Симон спал с семи до десяти часов вечера, просыпался, даже еще не заслышав почтового рожка, перевозил карету на верх, ложился опять и просыпался уже тогда, когда приходило время встречать обратный дилижанс на другом берету.
Так что в этот вечер Симон возмещал предыдущую бессонную ночь.
Ровно в половине одиннадцатого прибыла карета на верх с кучером Гаво. Она была битком набита: пассажиры ехали на ярмарку в Маноск.
Гаво проворно спрыгнул на землю и сказал Симону:
— Ты только не рассказывай, что с нами вчера вечером было, ладно? Тут женщины, дети — еще напугаются.
Симон кивнул. Да и не хотелось ему разговаривать.
Когда карета уехала, Симон скоренько вернулся домой, лёг на постель и уснул глубоким сном. Но не прошло и часа, как он вдруг проснулся и кинулся к двери. Сквозь сон он что-то услышал: как будто почтовый рожок доносился издалека.
Сначала Симон подумал, что уже пять часов утра. Но часы в деревянном футляре, тикавшие в углу, развеяли эту иллюзию.
На часах было без двадцати двенадцать.
Тогда Симон решил, что это все во сне, и стал протирать глаза. Рожок звучал по-прежнему.
Симон открыл дверь и ступил за порог.
Нет, это был не сон: он все услышал верно. На другом берегу красной точкой светился фонарь дилижанса, а рожок звучал еще громче.
Обратная карета с Альп, проходящая через паром в пять утра, никак не могла быть здесь теперь, еще до полуночи. К тому же каждый кучер трубит в рожок по-своему, и Симон ясно узнавал мелодию Гаво.
Но ведь Гаво был здесь всего час назад.
На лбу у Симона выступил холодный пот. Он догадался — и боялся себе поверить.
Все же он спустился к берегу, отвязал барку, взялся за лебедку, и паром потянулся по своим воздушным рельсам к другому берегу.
Чем ближе он подходил к нему, тем лучше Симон узнавал и карету, и тройку серых лошадей. Потом он услышал голос:
— Давай, Симон, давай поживей! — кричали с берега.
Это был голос Гаво, но какой-то дрожащий и сдавленный, словно от страха.
Симон причалил к правому берегу.
Ночь была безлунной и почти беззвездной, но фонарь дилижанса светил далеко — и у Симона вдруг волосы встали дыбом.
На облучке рядом с форейтором сидел человек, в карете рядом с Гаво — еще один. Они были в черных балахонах и с пистолетами у пояса.
Еще несколько человек в таких же балахонах высунули головы в капюшонах из окон, и у дрожащего Симона никаких сомнений не осталось.
Можно было подумать, что дилижанс перевозит целую монашескую обитель — но это были не простые монахи, а черные грешники.
Гаво вышел из кареты и помог вкатить ее на паром.
То же сделал один из черных братьев.
Каждый взял под уздцы одну из пристяжных, и дилижанс въехал на баржу.
Гаво был бледен и дрожал всем телом от возбуждения, но и слова не смел сказать. Да и Симон без всяких пояснений понимал, что тут происходит.
Неподалеку от трактира "Черный голубь" люди в капюшонах остановили дилижанс, высадили трепещущих пассажиров, а кучера с форейтором заставили под страхом смерти отвезти себя на другую сторону Дюрансы.
Баржа вернулась на левый берег.
Тогда главарь черных грешников — тот, кого называли капитаном, — сказал Гаво:
— Теперь ступай. Карету с дилижанса можешь не вывозить, мы знаем дорогу.
От голоса этого человека Симон вздрогнул.
Перевозчик уставился на него, словно желая проникнуть взглядом под капюшон и увидеть скрытое лицо.
— Господи, — прошептал он, — как будто его голос… И тот же рост… и та же походка…
И когда капитан проходил мимо лебедки, Симон тихонько сказал:
— Господин Анри…
Капитан дернулся и так же тихо произнес:
— Берегись, друг мой Симон, не всякое имя следует говорить вслух!
Как ни тихо он это сказал, нашлось ухо, которое услышало его слова, — ухо кучера Гаво.
И когда все черные братья сошли на берег, а отпущенный ими в свою дорогу дилижанс поплыл на пароме обратно на правую сторону, Гаво подошел к побледневшему, безмолвному Симону и шепнул:
— Я тоже подумал, как и ты.
Симон вздрогнул.
— У меня слух дюже тонкий, — подмигнул кучер.
— Ты о чем?
— Ну, я все слышал.
— Что слышал?
— Ты знаешь этого капитана?
— Не больше твоего.
— Значит, знаешь. Я-то его знаю. Ладно, — тихонько сказал Гаво, — что сказано, то сказано.
Симон ничего не ответил — только тяжело вздохнул.
* * *
Как ни устал Симон, но, вернувшись домой, уснуть не смог.
Всю оставшуюся ночь он провел в несказанной тревоге. Двадцать раз он выходил из дома и поднимался на холмик, с которого было видно далеко вдоль берега.
Куда отправились черные грешники?
Загадка!
Наконец часов около трех Симону показалось, что в ночи рассвело и небосвод окрасился багровыми отсветами. Паромщик опять взобрался на холм.
И тогда он увидел вдали языки пламени и клубы дыма, которые, казалось, заволокли всю деревню Сен-Поль-ле-Дюранс и зловеще поднимались ввысь на горизонте.
Потом, через четверть часа, он увидел, как со скалы на скалу, по крутым тропкам, спускавшимся с горы к речному берегу, скачет и карабкается будто бы стадо коз: то черные братья возвращались со своей страшной вылазки и спешили к парому Мирабо.
Симон, весь дрожа, вернулся в дом. Он подошел к нему одновременно с людьми в капюшонах.
Капитан, с пистолетом в руке, отрывисто приказал:
— Перевози!
Голос теперь казался измененным — звучал не так, как всегда.
Капитан подошел ближе и сказал:
— У тебя бывает длинный язык… Берегись, Симон!
Растерянный паромщик кивнул: ни слова, мол, не скажу… А сам печально подумал: "Прав был Стрелец… А ведь еще сегодня утром я голову отдал бы на отсечение, что Венаски — добрые люди!"
XII
— Вот и настали дурные дни! — воскликнул старик Жером, ставя ружье в угол к очагу.
Старик Жером был егерем в замке Монбрен. В восемь часов вечера он вошел в кухню, промокший до нитки — вода с него так и лилась.
Слуги замка сидели у огня под огромным каминным навесом.
Все были молчаливы и печальны.
Там были кухарка Нанетта, служанка Марион, Антуан — лакей господина Жана де Монбрена, и "Красавчик" — конюх, что ловко седлал кобылку медемуазель Жанны, а если надо, ехал за ней следом.
Погода была жуткой.
Ветер дул, как бешеный, дождь яростно хлестал в окна, буря так завывала в каминной трубе, что временами казалось: весь замок дрожит на старом фундаменте, качается и вот-вот рухнет. Иногда молния разрывала тьму, освещая бледным отблеском башенки замка, и снова наступала полная ужаса тьма.
Жером отряхивал мокрую блузу и все твердил:
— Дурные, дурные дни настали…
Красавчик — парень остроумный — повернулся в его сторону и сказал:
— Чему ж удивляться, дядя Жером: после Всех Святых, говорят, черт за сковородку берется.