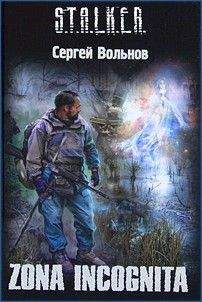Так как всё уже было готово к отъезду, отец мой отправился проститься с королем и, согласно обычаю, принятому при испанском дворе, упал на одно колено, чтобы поцеловать ему руку, но внезапно печаль так сжала ему сердце, что он лишился чувств и его отнесли без сознания домой. Наутро он пошел проститься с доном Фернандо ле Лара, который был тогда первым министром. Дон Фернандо принял его весьма ласково и уведомил его, что король назначает ему двенадцать тысяч реалов пожизненной пенсии вместе со званием серхенто хенералъ, которое соответствует нынешнему дивизионному генералу. Мой отец половину собственной крови отдал бы за счастье броситься ещё раз к стопам монарха, однако, поскольку он уже получил прощальную аудиенцию, то вынужден был на сей раз ограничиться письменным выражением горячего чувства признательности, которое переполняло всё его существо. Наконец, не без горьких слез он покинул Мадрид. Выбрал дорогу через Каталонию, чтобы ещё раз увидеть поля, на которых он дал столько доказательств мужества, и проститься с некоторыми давними товарищами, которые командовали военными частями, расквартированными на границе. Оттуда через Перпиньян он прибыл во Францию.
всё путешествие вплоть до самого Лиона протекало без всяких приключений. Из Лиона мы выехали на перекладных, и нашу карету обогнал экипаж с гораздо меньшей поклажей, который первым прибыл на станцию. Вскоре отец мой тоже подъехал к зданию почты, где увидел, что кучер, который его опередил, уже меняет лошадей. Отец тотчас же взял шпагу и, приблизившись к путешественнику, попросил уделить ему минутку, чтобы поговорить с глазу на глаз. Путешественник, некий французский полковник, видя моего отца в генеральском мундире, чтобы не проявить к нему неуважения, тоже взял шпагу. Они оба вошли в трактир, расположенный против почты, и попросили предоставить им отдельную комнату. Когда они остались наедине, отец мой обратился к путешественнику с такими словами:
— Сеньор кавалер, твой экипаж опередил мою карету, стремясь непременно первым подъехать к почте. Поступок этот, хотя он сам по себе и не является оскорблением, чем-то, однако, для меня неприятен, из чего и следует, что ты, сеньор, должен мне дать объяснение своего поступка.
Полковник, сильно удивленный, свалил всю вину на почтальона и заверил, что во всяком случае ни во что не вмешивался.
— Сеньор кавалер, — прервал его мой отец, — я не считаю этого, впрочем, делом чрезмерной важности и поэтому остановлюсь на первой крови.
С этими словами он обнажил шпагу.
— Сеньор, погодите мгновение, — сказал француз, — я полагаю, что это вовсе не мои почтальоны опередили ваших, а, напротив, ваши еле тащились и поэтому остались сзади.
Мой отец немного подумал и сказал полковнику:
— Мне кажется, что вы, сеньор, правы, и если бы вы раньше сделали мне это замечание, то есть прежде, чем я обнажил шпагу, без сомнения, всё обошлось бы без поединка; но теперь, вы сами понимаете, сеньор, что без небольшого кровопролития мы разойтись не можем.
Полковник, видимо, нашел эту причину вполне уважительной и также обнажил шпагу. Дуэль продолжалась недолго. Мой отец, почувствовав, что ранен, тут же опустил свою шпагу и стал просить у полковника прощения, что посмел его затруднить, на что тот в ответ сказал, что он всегда к его услугам, назвав место, где его можно найти в Париже, после чего сел в экипаж и уехал.
Отец мой сперва хотел пренебречь нанесенным ему ранением, но тело его было настолько покрыто прежними ранами, что этот новый удар попал в прежний шрам. Удар полковничьей шпаги вскрыл рану от выстрела из мушкета, где ещё сидела пуля. Теперь свинец этот вышел на поверхность, и только после двухмесячных припарок и перевязок родители мои пустились в дальнейший путь.
Отец мой, прибыв в Париж, тотчас же поспешил навестить маркиза д'Юрфэ (так звали полковника, с которым у него была стычка). Это был один из людей, чрезвычайно уважаемых при дворе. Он принял моего отца с несказанной любезностью и обещал представить министру, а также и первейшим вельможам Франции. Мой отец поблагодарил его и попросил только представить его герцогу де Таванн, который был тогда старейшиной маршалов, ибо хотел получить более точные сведения касательно суда чести,[43] о котором до сих пор, имел высокое понятие и часто рассказывал о нём в Испании как о необыкновенно мудром установлении и всеми силами старался ввести его в своей стране. Маршал также был рад моему отцу и представил его кавалеру де Бельевру, первому секретарю господ маршалов и референдариев означенного трибунала.
Кавалер, часто посещая моего отца, заметил однажды у него хронику дуэлей. Это творение показалось ему настолько единственным в своём роде, что он просил разрешения ознакомить с ним господ маршалов, которые разделяли мнение своего секретаря и послали к моему отцу с просьбой, чтобы он позволил им снять с вышеназванной хроники копию, которая на вечные времена была бы оставлена на хранение в делах трибунала чести. Эта просьба была невероятно лестной для моего отца, и он с радостью дал согласие.
Подобные знаки уважения постоянно услаждали моему отцу его пребывание в Париже, но совершенно иначе было с моей матерью. Она решила не только не учиться по-французски, но даже не слушать, когда говорят на этом языке. Исповедник её, Иньиго Велес, всё время горько высмеивал терпимость галликанской церкви,[44] а фехтмейстер Гарсиас Иерро завершал каждый разговор уверением, что французы — увальни и трусы.
Наконец, родители мои покинули Париж и после четырех дней пути прибыли в Буийон. Отец мой доказал свои права перед надлежащими властями и вступил во владение поместьем. Дом наших предков с давних пор лишен был не только присутствия своих хозяев, но и черепиц, а посему настоятельно требовал починки; дождь лил в комнатах так же, как и на дворе, с той только разницей, что мостовая вскоре просыхала, а лужи в комнатах постоянно увеличивались. Это затопление семейного очага разбушевавшимися водами очень нравилось моему отцу, ибо напоминало ему осаду Лериды, во время которой он провел три недели, стоя по пояс в воде.
Однако, наперекор этим приятным воспоминаниям, он постарался всё же поместить ложе своей молодой супруги в местечке посуше. В просторной спальне высилась громадная фламандская печь, около которой полтора десятка человек могли греться самым удобным образом. Выступающий свод этой печи создавал нечто вроде крыши, подпертой с каждой стороны двумя столбами. Итак, дымоход был забит, и под этой крышей водрузили ложе моей матери, столик и один стул, однако, так как топка была на один фут выше уровня пола, то эта печь и оказывалась как бы островом, неприступным для подступающих к нему разбушевавшихся вод.