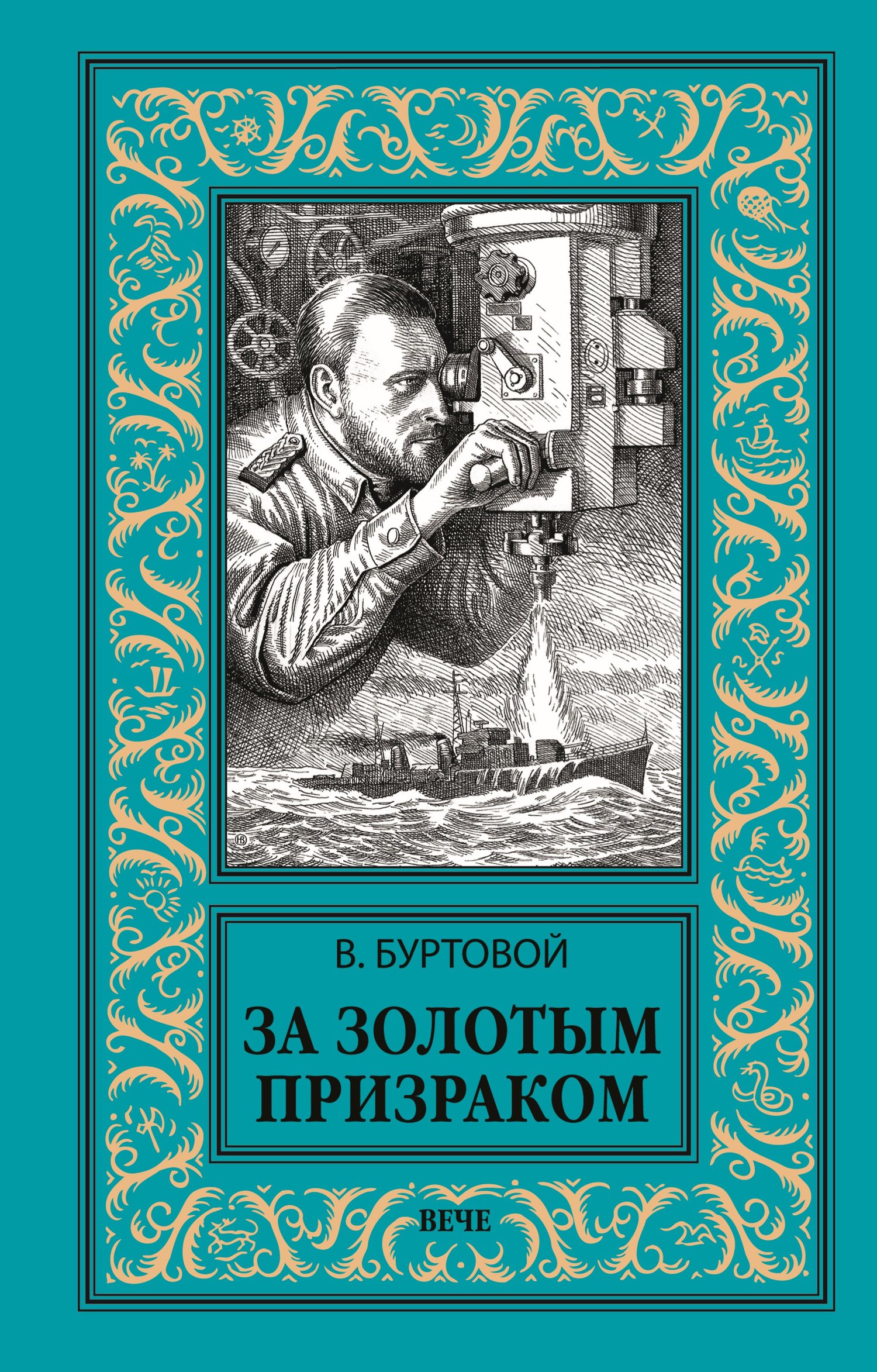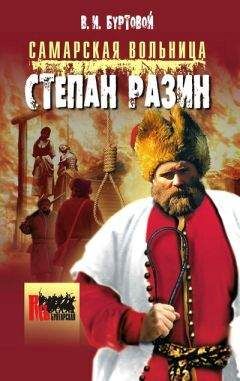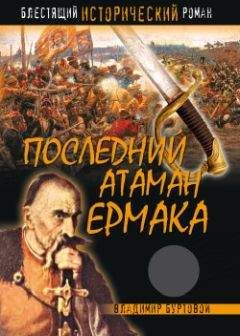ворот, поскакали в сторону усадьбы, подзадоривая друг друга криками, но, о чем кричали, за дальностью разобрать было невозможно, «Тако с пленным Михась не стал бы гнать коней наперегонки», – догадалась княгиня Лукерья, приняла от розовощекой Дуняши белую пуховую шаль, накинула на плечи. Через полминуты все же попросила верную подружку – ни разу она даже при слугах не назвала Дуняшу холопкой или дворовой девицей, она для нее после всех горестных испытаний, выпавших на них обоих, так и осталась подружкой, самой доверенной на женской половине усадьбы.
Более того, по ее просьбе управляющий Агафон Петрович побывал в Москве и в доме князя Ивана Богдановича Милославского совершил с его управляющим купчую на Дуняшу, уплатив за нее двадцать рублей, тогда как обычная кабальная сумма была всего три рубля.
– Вглядись, Дуняша, не обманываюсь ли я? Ведь это наш князь Михаил с кем-то к дому торопится?
Дуняша радостно подпрыгнула, будто дитя малое, захлопала ладошками и закричала так, чтобы и все слуги в доме услышали ее:
– Он это, княгиня Луша! Он, да не один, с гостем!
Антипка прикрыл русоволосую голову шапкой, отпихнул ногой упавшую набок пустую бадью и прытко побежал к воротам открывать – за сотню саженей он узнал князя Михаила в драгунском мундире. Следом за ним и княгиня, левой рукой придерживая на груди концы шали, поспешила навстречу мужу и, едва Михаил соскочил с коня, кинулась ему на грудь.
– Живой! Живой мой Михась! А кто это с тобой? – и она, не узнавая со спины ловко соскочившего на землю чужестранца, вдруг подсознательно задала мужу другой вопрос: – Неужто… братка Ибрагим? Да какими ветрами его сюда занесло?
– Ага-а, шайтан-девка! Узнавал старый кунак, да? – с гортанным смехом отозвался горбоносый Ибрагим, резко обернулся и, не сдерживая бившей из сердца радости, ко всеобщему изумлению выбежавшей на крыльцо дворни, обнял вслед за Михаилом давнюю ратную подругу.
– Лушенька, ну как? Кто? – Михаил не мог далее ждать и задал тот вопрос, который терзал его душу все последние месяцы их пребывания в имении Мышецких…
Безмятежное проживание в имении княгини Лукерьи и Михаила было чисто внешним, тогда как на душе тяжким камнем лежала неизвестность будущего – что решит патриарх, разрешит ли снять монашеский сан или прикажет возвратиться в монастырь? Захолодело сердце княгини, да и у Михаила тоже, когда к Рождеству Христову от патриарха прибыл нарочный с письмом, в котором писано было, что княгиня Мышецкая, монахиня Маланья Вознесенского монастыря, вызывается к патриарху для разбирательства невиданного случая оставления своей кельи и пребывания неведомо в каких краях в течение нескольких лет.
Прочитав письмо, княгиня с грустью прошептала, так что Михаил едва разобрал ее слова:
– Строго как писано… не к добру это, чует мое сердце!
Михаил, как мог, утешал ее, пытаясь вселить в нее веру в лучшее.
– Я все же надеюсь на заступничество княгини Просковьи, не сидела она все эти дни сложа руки при ее-то энергии.
– Надо будет – отдам и свое село с тремя сотнями душ крепостных, которое находится близ Калуги по ту сторону Оки, лишь бы позволили совершить расстрижение и позволили нам обвенчаться! Зови дядю Семена, Антипку, возьму еще троих стражников, и поедем в Москву. Попервой навестим княгиню Просковью, от нее и узнаем последние московские новости…
Вопреки страшным предчувствиям, дело монахини разрешилось вполне благополучно. Явившись к патриарху в сопровождении княгини Просковьи, княгиня Лукерья подробно и неспешно поведала все, что якобы случилось с ней при встрече с персидским тезиком, потом свое мытарство на Волге под строгим присмотром разинских казаков, не скрыла и о своей беременности от самарского стрелецкого сотника Хомутова, который в недавних сражениях был убит, как ей передали весть через одного из самарян, бежавших из города Самары из-за страха наказания за участие в бунте. И просила мудрых старцев, облаченных властью над ее жизнью, не сиротить наследника славного воина князя Данилы Мышецкого, потому как неизвестно, спасет ли свою жизнь бездетный пока князь Иван, находясь на государевой службе в войске, которое стоит напротив донского казачьего войска. А их семейное село под Звенигородом, которое было отписано монастырю при пострижении, она с радостью оставляет церкви и не будет хлопотать перед великим государем о возвращении в прежнее родовое владение.
Этот ли последний довод возымел положительное воздействие, или хлопоты старой княгини Просковьи весьма благожелательно подействовали на решение патриарха Синода, но, когда их решение было оглашено – дозволить монахине Маланье сотворить расстрижение, а за то, что в чужих землях она не соблюдала монастырский устав и православные праздники, ей свершить наложенную на нее церковью епитимью – сорокоуст, сорокадневную молитву по якобы усопшей монахине, на что княгиня с радостью согласилась, попросив только отсрочки на время, пока не родится ребенок.
Михаил, а рядом с ним и дядя Семен, как ребятишки, прыгали от радости, когда княгиня Лукерья со своими стражниками возвратилась в Коломну, где они ее ожидали, стряпуха Авдотья и неразлучная с княгиней Дуняша приготовили ужин, за которым снова пили сладкое вино в знак того, что теперь нет причин откладывать венчание княгини Лукерьи и выходца из польских земель дворянина Михаила Пушкарева, что и свершилось на второй же день в коломенском соборе, и сделали нужную запись в церковной книге.
– И кто же я теперь? – шутливо спросил Михаил у коломенского епископа Иоанна, который, как выяснил в разговоре с ним Михаил, хорошо помнил горемычного коломенского епископа Павла. – Князь ли, или моя жена из княжеского рода перешла в дворяне?
Прикрыв большие выпуклые глаза пухлой ладонью, епископ Иоанн изрек нравоучительно:
– Как сказано в Соборном уложении: «по робе холоп», стало быть, и ты, сын мой, по жене княжеского рода – сам князь. Аминь!..
И возвратились домой счастливые сверх всякой меры, пока в конце апреля до усадьбы Мышецких не докатился слух о том, что 14 апреля старшинские казаки Корнилы Яковлева штурмом захватили Кагальницкий городок и взяли в плен атамана донских голутвенных казаков Степана Разина. Несколько дней Михаил не находил себе места, метался по горнице, словно его самого схватили и, заковав в кандалы, бросили в темный сырой сруб, приготовив к лютой казни. А в том, что Степана Тимофеевича ждет именно лютая казнь, ни он, ни княгиня Лукерья нисколько не сомневались.
– Лихо воспляшут теперь бояре на спине казацкого атамана! Ужо теперь они натешатся вволю, памятуя недавний свой страх перед восставшими казаками, стрельцами да мужиками!
– Что же делать, Михась? Что можем сделать мы с тобой? – Княгиня понимала состояние мужа и готова была дать согласие на его отъезд из усадьбы,