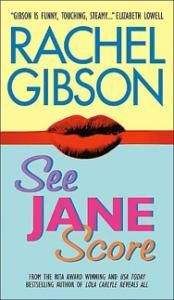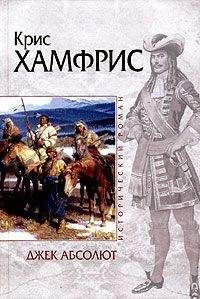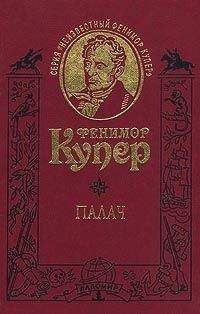– В чем дело? – Бекк повернулась к нему лицом, уперев руки в бока. – Никогда прежде не видел сисек?
– На парнишке – нет, – пробормотал совершенно смутившийся скандинав. – На парнишке – никогда.
* * *
Это было… странно. Ну-ка… что это было за слово? То, которым пользовался Фуггер?
Парадокс. Еще один парадокс. Этот парадокс относился к боли. Потому что чем большие муки он испытывал, тем больше была награда, когда потом он приходил в сознание после обморока. Его тело по-прежнему находилось в плену, но разум был совершенно ясен. Его мучители уходили – и тогда являлись другие. Его друзья.
Они все приходили к нему. Иногда все вместе, словно они снова трапезуют, как тогда, в Тоскане, а иногда – порознь. Джанук рассуждал о поединках и саблях и о том, насколько удобнее пользоваться изогнутым клинком. Хакон делился различными мудрыми высказываниями своей матери, причем каждое следующее было еще более непереводимым, чем предыдущие. Фуггер танцевал и шаркал вокруг него, стараясь не встречаться с ним взглядом.
А когда возникала Бекк, все происходило иначе. Ему нужно было сказать ей так много из того, что он не мог сказать раньше. Не успел за то недолгое время, которое они провели вместе. Он всегда предпочитал действовать, а не говорить и теперь жалел об этом, потому что вдруг усомнился: знает ли она, как сильно он ее любит? Он не открыл Бекк, что это неожиданное чувство сняло невыносимый груз, который давил на него с тех пор, как умерли его жена и дочь. Словно от входа в пещеру откатили камень, впустив туда свет. А сейчас Бекк уверяла его, что поняла все без слов. Она сказала ему, что с ней все произошло точно так же: он вошел в дом ее сердца – и все комнаты вдруг поменяли свой цвет.
Этим утром Чибо присоединился к своему телохранителю. Чибо был бесстрастен. Это причиняло куда больше страданий, нежели зверства немца. Когда Жан очнулся от насильственного забытья, он попробовал изогнуть свое связанное тело, и муки снова поглотили его. Поскольку рядом никого не было, он разрешил себе закричать.
И тогда к нему прикоснулась рука – одновременно и знакомая, и чужая. Его успокоила прохлада, то, как пальцы скользнули по контурам его лица, принося облегчение поврежденным костям.
Она стояла перед ним с улыбкой на лице. Седая филигрань, пробегавшая по ее волосам тогда, в Тауэре, исчезла. Они стали сплошь черными, если не считать красных бликов, напоминавших пионы, разбросанные по какому-нибудь склону близ Луары.
Шесть ласковых пальцев прикасались к нему, ощупывая его раны, принося с собой исцеление. Рука, которую ему недавно сломали, снова срослась, и нога тоже. Когда Анна соединила ему ребра, дышать стало легко – впервые за много дней, и он сделал глубокий вдох, ощутив аромат ее тела. От королевы пахло летом.
– Они причинили тебе вред, Жан, – проговорила она, и ее глаза потемнели.
– О, миледи, – ответил он, – это не сравнится с тем вредом, который я причинил вам.
– Какой?
– Моя неудача. Ваши враги отняли то, что вы доверили мне, то, что я поклялся защищать. Ничего уже не исправить.
Она наклонилась над ним и обхватила ладонями его лицо – точно так же, как той ночью.
– Разве ты не говорил: «Пока я жив, я не перестану надеяться»?
И он улыбнулся. Надежда оставила его несколько дней назад, когда он услышал, как ломаются его кости. Анна улыбнулась в ответ:
– Это должно кое о чем сказать тебе, Жан Ромбо. Это должно напомнить тебе о моем обещании. Помнишь, я сказала тебе на эшафоте: «Мы еще встретимся». И не только во сне.
С этим она исчезла, унеся с собой солнечный свет. Возможно, ее прогнали шаги, раздавшиеся на лестнице.
На этот раз кроме жаровни, которую несли на металлических палках тосканцы, в камере появились и две лампы. Одну держал Генрих, вторую – архиепископ. Когда Жан увидел это, его решимость дрогнула. Этот человек слишком хорошо разбирался в боли.
Священнослужитель подошел к нему и поднял лампу, рассматривая результаты своих последних трудов.
– Интересно. – Бархатный голос обволакивал сознание Жана. А потом – кашель и поднесенный к губам платок. – Как это один человек может вынести такое, от чего другой давно уже умер? Порог. Интересное слово. В нем заключается понятие и границ, и того, что через них переходит. Мы с тобой много раз видели, как люди переходят порог между этой жизнью и будущей, не правда ли, палач? И мне никогда не надоедает переживать этот момент. А тебе?
Жан молчал, не уступая своему врагу ничего.
Кашель Чибо и красная отметина на ткани дали Жану еще одно словесное оружие – возможно, последнее. Сквозь обломки зубов он вытолкнул слова, тщательно подбирая каждое:
– Это верно, я кое-что знаю о смерти. Я видел ее написанной на тысяче лиц. Но ни разу еще не видел, чтобы она читалась так ясно, как сейчас на твоем лице. Возможно, я попаду в адское пламя раньше тебя, но скоро ты будешь гореть рядом со мной.
Несколько секунд архиепископ молчал. Его и без того бледное лицо совершенно обескровилось. Он закашлялся и опоздал с платком, так что кровь вытекла ему на подбородок. Чибо отвернулся, чтобы совладать с собой, – и снова повернулся, уже с улыбкой на лице.
– Ты нам больше не нужен, палач. Аполлоний решил, что ему не так уж и важны те сведения, которые ты мог бы ему сообщить. Он считает, что тайна скрывается в самой плоти этой проклятой руки. Я так и подозревал, судя по тому, как на меня действовало ее прикосновение. Так что мы обработаем ее ртутью, вскроем, разрежем на куски. Особенно лишний палец. Аполлоний предполагает, что ядро силы прячется в нем. Когда мы ею овладеем – кто знает? Возможно, в аду у тебя не будет соседа.
Жан рассмеялся. Нелепая реакция для искалеченного человека, подвешенного на стену. Разъярившись, Чибо рявкнул:
– Один раз я ошибся, оставив тебя в живых. И теперь я получу величайшее удовольствие, наблюдая за тем, как ты умираешь. – Повернувшись к своему телохранителю, он добавил: – Давай посмотрим, на сколько ты сможешь это растянуть, Генрих.
Немец обмотал руку тряпкой и взялся за нож, лежавший на угольях жаровни.
– Начинать, милорд?
Кивок – и нож придвинулся к Жану. Он инстинктивно закрыл глаза, поднял голову и постарался думать о Тоскане, о Бекк. Он почувствовал, как жар приближается к его плоти.
В дверь робко постучали. Лезвие немного отодвинулось, и Жан открыл глаза. В дверях стоял Джованни. Управляющий не мог отвести взгляда от окровавленного человека, висящего на стене, – и забыл то, ради чего пришел.
– Ну, дурень? – зарычал на него Генрих.
– Та… та… танцовщица пришла, ми… милорд.
– Какая еще танцовщица? А! А, да. – Чибо повернулся к Генриху. – Джованни уверяет, что отыскал какую-то итальянскую шлюху, которая исполнит мне танец Саломеи с семью покрывалами, а потом меня удовлетворит. Ну что ж, придется ей подождать. Думаю, мы скоро освободимся. – Он замолчал. Джованни неохотно повернулся, чтобы уйти, а нож снова начал приближаться к Жану. – Нет, подождите! – Покрасневшие губы улыбнулись. – Я забыл, Генрих. Растянутое удовольствие бывает вдвое острее. То же самое относится и к боли. Давай оставим нашего друга здесь. Пусть он еще какое-то время предвкушает свои последние муки. Его смерть станет слаще после того, как я испытаю… как бы это выразиться?.. маленькую смерть, которую даст мне эта шлюха. И поскольку Франчетто ушел в ночь со своими людьми, мне даже не придется ею делиться. Разве только тебе самому захочется, милый Генрих?