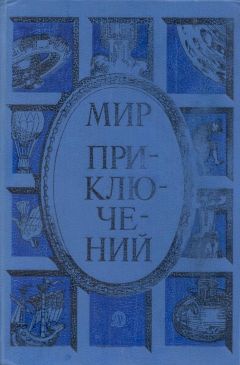Оборвал ее: «Слышал припевку! Хватит! Княжеской воле перечишь? Прикажу на цепь посадить!»
И вовсе спятила: с колен вскочила, глаза безумицы – такие у волчицы видывал, когда волчат защищала.
«Воля твоя, – хрипит, – можешь убить! Все едино за постылого не пойду… Это нерушимо, не пойду! Нет такого божьего закона!»
Можно б силой ослушницу под венец повести, да стоит ли из-за дурехи закон церковный рушить, разговоры вызывать лишние?
Он позвал Кочеву, строго приказал связать непокорную и отправить в самый дальний монастырь Покрова Богородицы: «Да никому в Кремле не сказывай, куда!»
…Вспоминая сейчас все это, князь припомнил и сумное лицо Бориски. В последнее время зверем смотрит, только что не рычит. Нет, спокойнее удалить его из Кремля…
Мастер Лука был несказанно рад возвращению Бориски.
Правда, юноша стал молчаливым, замкнутым, но и это нравилось Луке. Он не расспрашивал, почему возвратился, что произошло. Чувствовал – к этому притрагиваться нельзя. Только старался отвлечь Бориску от тяжких дум и непривычно много говорил сам.
Бориска весь отдался литейному делу, вкладывал в него и свою нерастраченную любовь и проворство золотых рук.
Мастер, видя такое рвение, тем охотнее передавал свои секреты, накопленные почти за полвека труда, не мог нахвалиться учеником. Был Бориска воздержан, не ветрен, не бражник. До работы не то что охоч – яростен, за год многолетнюю науку проходил.
Придумал люботрудец, как лучше малые колокола лить, – получалось и быстрее и голос звонче.
Через три года Лука от простуды сгорел за ночь, и Бориска стал сам лить колокола.
Слава о нем шагнула далеко за Москву. Приезжали к нему из-за Оки, из Новгорода.
Однажды в праздничный день к Бориске пришел фряжский гость – высокий, пожилой, с бронзовым от загара лицом. Одет он был в темный камзол, на ногах ботинки с серебряными пряжками.
Бориска, в синей рубахе с открытым косым воротом, сидел в своей чистой клетушке рядом с мастерской, слушал певчих птиц на окне в клетках, поддразнивал их свистом.
– Добрый день, маэстро! – деликатно поклонился вошедший, переступая порог, и, сняв шляпу, открыл высокий лоб.
– Доброго здоровья! – гостеприимно ответил Бориска, вставая. – Садитесь, – предложил он, пододвигая лавку.
– Как поживаете, коллега? – усаживаясь, спросил пришелец, старательно выговаривая русские слова.
Бориска оглядел его веселыми глазами – что надобно этому заморскому гостю? Блеснул белоснежными зубами:
– Поживаем! Князья в платье, бояре в платье, будет платье и нашей братье!
– Люблю веселых людей! – улыбнулся гость. – Разрешите посмотреть работу вашу.
«Может, покупатель?» – подумал Бориска, а вслух сказал:
– Милости прошу. – И повел в соседний сарай.
Там на полу стояли отлитые Бориской гири для весов. Подтянутый к балке потолка, поблескивая медью, висел красавец колокол, сиял литым телом.
Гость быстро подошел к нему, ногтем побил по краю, прислушался к звуку. Звук родился чистый, долгий, красоты необычайной. На лице гостя появилось выражение изумления.
– Вы великий маэстро! – воскликнул он восхищенно.
– Ну уж и великий! – возразил Бориска. – Однако кое-что умеем…
Гость приблизил глаза к языку колокола; приподнимаясь, осветил его лучиной. Вверху, у основания языка, клеймом выбито непонятное слово: «Фетинья».
– Что есть это? – спросил он, указывая длинным пальцем на увиденную надпись.
Лицо Бориски стало суровым, сказал тихо, с болью:
– Сердце мое…
Гость не понял, но переспрашивать не стал, произнес торжественно:
– Я есть всеизвестный колокольный маэстро Бартанелло. Я объявляю: вы есть достойный меня в искусстве!
Бориска от неожиданности резко обернулся, с радостью поглядел на гостя: «Бартанелло?!»
Вспомнил улицу Сарая-Берке, по которой несколько лет назад везли колокол. Думал ли тогда о встрече такой, о том, как судьба изменится?..
– Я приглашаю вас в свою мастерскую, в Рим. Вы будете получать там ваши рубли а двадцать раз больше, чем здесь!
Он сказал это голосом человека, который понимает, что достоин благодарности. Бориску задел и этот тон и это предложение. «Не много ли мнишь о себе? – с невольным недружелюбием подумал он. – Небось считаешь, что только у вас умельцы?»
Но сдержал себя, с достоинством поклонился:
– Спасибо. Землю отцов оставлять не собираюсь… И здесь руки умелые надобны.
– Да вы не понимайте, от какого счастья уходить! – с недоумением воскликнул Бартанелло.
– Все разумею, – спокойно сказал Бориска. – Спасибо за честь, – твердо повторил он.
Через неделю после прихода Бартанелло приехала в Москву на небольших саночках – крытом возке – игуменья из монастыря Покрова Богородицы, дородная, краснощекая, с важной поступью и властной речью.
Игуменья побывала у дьяков Мелентия и Прокопия, заказала переписать для монастыря Евангелие, зашла к знакомой настоятельнице, а перед отъездом разыскала колокольного мастера. Долго ходила вокруг колокола, словно трещину искала, того дольше торговалась – выжилила-таки два рубля! – и наконец договорилась, что привезет Бориска колокол в монастырь самолично.
Отъезжая на саночках от мастерской, мелко крестилась, шептала слова молитвы: уж больно статен да красив был мастер, греховные мысли вызывал.
Вскоре после заговенья[137] Бориска собрался в путь. Он оделся потеплее, приладил на розвальнях колокол, окрутил его веревками, сам сел впереди и выехал со двора. Бориска обогнал прачку-мовницу, на санях везущую портища,[138] миновал сады и очутился за городом. На реке, у проруби, парни били палками по льду – глушили рыбу и вытаскивали ее баграми.
Пошел неторопкий снежок. Издали одинокий сизый тополь покивал Бориске вслед.
Москву еще не успело занести сугробами, ее только легонько припорошило, то там, то здесь виднелись чернеющие бока бревенчатых стен.
«Бартанелло напрасно приманивал, – думал Бориска. – Хоть и тяжко живется в земле нашей, а ни на какую иную не променяешь – своя и в горести мила… В „Слове о погибели“ сказано: „О светло-светлая и украсно украшенная земля Русская! Ты многими красотами удивляешь“. Дивно-то как сказано! И верно – все дорого: и эти ели на опушке, и замершая Неглинка, и множество дымков из снегом припорошенных изб…»
Бориска еще раз с любовью посмотрел на Москву и неожиданно вспомнил, как несколько лет назад, осенней порой, он вот так же оглядывался на стены, глазами искал Фетинью. Стало грустно, тяжко на сердце…