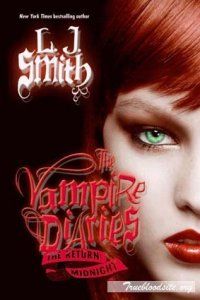Ознакомительная версия.
“Что вы имеете в виду? Поясните для эмира”.
“О повелитель, видите ли... Например, многие хвалят его за то, что ему удается не использовать устаревшие парфянские слова... как будто это так уж важно. Хочешь — используешь, не хочешь — не используешь, все в твоих руках. И с другой стороны, какая разница, говорю я “дерево” или говорю я “драв”? Если не знаешь, всегда можно спросить у кого-нибудь, что это такое... верно? Старые слова придают стихам аромат древности, я так считаю. Слушая старые слова, человек тянется мыслью к древним вершинам мудрости... Или вот еще говорят, что, дескать, он не допускает излишества арабизмов. И не прибегает к местным диалектам. И вроде как все вместе образует некий новый стиль... иные называют его “хорасанским”. Ну, на мой взгляд, это все несущественно. Ведь слова есть слова: если человек их без истинной веры произносит, в них все равно толку нет, в каком порядке ни расставь... Или вот некоторых радует, что в его стихах встречается якобы множество всем известных выражений... таких, знаете ли, просторечных... ну, которыми совсем простой народ пользуется. Поговорки всякие... Ну да, допустим, использует. И что? Какая в том заслуга? Лично мне просторечность совершенно не кажется примером высокого поэтического творчества. Наоборот. По-моему, если в чьих-то стихах сплошь такие слова, что присущи козопасам, то, конечно, любой козопас будет распевать их с большой охотой. Но какая в том радость? Что козопас может понимать в поэзии?.. Принято считать, что поэт слышит речи ангелов. Разве ангелы говорят языком козопасов?.. Как ни крути, поэзия — высокое искусство. Для избранных. Потому что если поэзия — для всех, то чем она отличается от ослиного рева?”
“Согласен, согласен... А в отношении веры?”
“В отношении веры Джафар Рудаки тем более не мог быть образцом. Он часто допускал вольности в рассуждениях о вере... и даже о Пророке”.
“И даже о Пророке! — с удовлетворением повторил молодой хаджи. — Занятно!”
“Кроме того, он сеял смуту в сердца верующих. Распространял мысли о незначительности разницы между разными толками веры... короче говоря, он не старался отстоять истину, как это положено мусульманину”.
“Так, так”.
“Доходило до крайностей. Как-то раз он прочел набросок стихотворения. Что-то вроде панегирика. Такая, знаете ли, расхожая похвала эмиру Назру...”
“Какое именно?”
“Кажется, оно вовсе не было обнародовано. Не знаю, может, он даже и не дописал. Тем не менее я запомнил следующие строки. Могу прочесть”.
“Ну?”
Умед продекламировал два бейта.
Эмир снова хихикнул, и довольно неожиданно.
“Следуй ясным путем Фатимидов! — именно так сказано?” — переспросил Гурган.
“Именно так. Кроме того... всего наизусть не помню, но смысл тот, что, дескать, воистину следует возблагодарить Господа за то, что он не дал пророку много детей. Иначе, дескать, не избежать страшной междоусобицы. Дескать, каждый князек, поддерживая того или иного из бесчисленных отпрысков, претендовал бы на власть в халифате”.
“Вот как”.
“Да... И, конечно, непрестанно толковал насчет того, что в мире веры неверные неизбежны”.
“Как бы пытаясь себя тем самым оправдать?”
“Ну да, наверное... Вы очень верно предположили, господин Гурган... я восхищен, ваш светлый ум способен рассеять самый густой мрак загадочности. Вот именно, он всегда хотел оправдаться. Но какое может быть такому человеку оправдание?”
“Что ж. Благодарю. Что скажете, Джафар?”
Отвечал ли он на эти обвинения? Да, конечно, он отвечал... бился как лев... Детали рассыпались лепестками... развеялись. Помнилось лишь то, что происходило в самом конце: он все-таки не стерпел своего унижения, не вынес всей подлости того, что происходило: взорвался, закричал какую-то невнятицу.
“О повелитель! Что с вами делают! Что делает с вами этот хитрый мулла! Зачем вы позволяете этому червю морочить себя! Ваш славный отец сидит в тюрьме! Вас тоже ведут к пропасти! Это гибельный путь, о повелитель!..”
Эмир Нух удивленно хмыкнул.
— Что?.. Что он несет?.. Бога ради, ответь этому назойливому человеку!
— Дорогой Джафар, — устало сказал Гурган. — Ваш последний выпад сам по себе заслуживает смерти. Поэтому, полагаю, в отношении вас никакое наказание не окажется чрезмерным. Что же касается эмира Назра, то великий эмир Нух более чем справедлив к своему отцу. Справедливость выше родственных привязанностей. Ибо родня есть только на земле, а за несправедливость эмир ответит на небесах. Вступится ли там за него его отец-вероотступник? Боюсь, что нет. Ибо эмир Назр — чудовище. Тысячи и тысячи его последующих преступлений меркнут перед тем, что он совершил в самом начале жизни: сначала зарезал родного отца, затем в сговоре с дружком, метившим на пост визиря, отравил индийским ядом своего прилежного и верного наставника — регента Джайхани. Мыслимое ли дело? Этот шайтан в человеческом обличьи не заслужил лучшей участи, чем сдохнуть в темнице от голода и жажды.
— Вот-вот... верно сказал, да, — заблекотал молодой эмир. — Чудище, ага.
— Что же касается вас... Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними. Вы уподобились эмиру Назру. Вы тоже сами заслужили то, к чему привел вас Господь... Возьмите его!
И сделал такой жест, будто отмахнулся от осы, кружившей где-то у подбородка.
* * *
Но настала не смерть, а пустота.
Когда он снова обнаружил себя, в дыру под крышей светила луна.
Это было необъяснимо.
То, что он валяется на полу пустой загаженной камеры, — еще можно понять.
Но почему ночь?
Куда стекло время дня?
Он лежал без чувств? По этой же причине отсрочено усекновение?..
Прошлое волновало больше будущего. Будущее представлялось как никогда ясно, в прошлом же остались загадки.
Скоро придут... он уже в сознании... можно казнить.
Все, что произойдет, представлялось в мельчайших подробностях. Шаги... сопение... тычки... Двор, залитый серебром... Еще толчок, от которого подкашиваются ноги... Последнее — сухой шорох, с каким лезвие меча рассекает стебли лунного света.
Луна пристально смотрела на него. Ее немигающий взгляд был как взгляд доступной женщины.
При последних шагах она так же будет смотреть... и он — жадно всматриваться в ее белый, манящий, с вечными оспинами, лик.
Последний шорох — да, конечно... но луна яркая!.. и улыбается призывно... и что же страшного в этом? Шорох — и тут же тепло разливается по всему телу... жаром бросается в лицо. Да-да: мгновенный жар — а потом легкость, неизъяснимая легкость. Ну конечно: душа отделяется от опостылевшего, исковерканного временем тела, вырывается на свободу... взмывает!.. Как приятно, Господи!.. Как легко!.. Как быстро она летит к луне!.. Ощущение мятного холода во рту... и необыкновенная, необыкновенная легкость: будто весь век тащил какую-то нелепую, тяжелую ношу... с натугой нес... страшился уронить... берег от ударов, от опасных толчков... трясся над ней, изнемогая под тяжестью... Вдруг оступился — и не успел ахнуть, как она, рухнув на землю, разлетелась в куски. И теперь такая легкость, такая упоительная легкость!.. И улыбающаяся луна!.. Вот в чем дело! Не смерть страшна, а только приготовление к ней. Страшит неведомое. Ужасает неизвестность будущего, а не само будущее: когда будущее становится настоящим, оно мирно превращается в прошлое! Ликование, охватившее все его существо при этих ясных, отчетливых мыслях, подтверждало их совершенную истинность... Скорей бы. Скорей.
Ознакомительная версия.