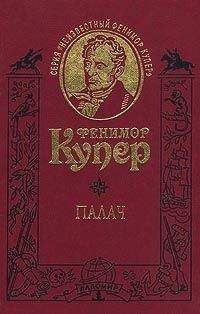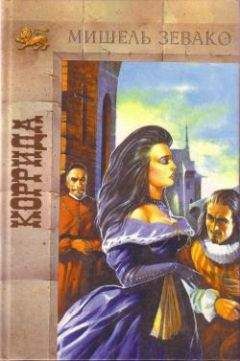Пристыженный и смущенный, Центурион пробормотал:
– Пощадите, сударыня!
Какое-то время Фауста пристально смотрела на него, а затем, презрительно пожав плечами, как уже не раз в разговоре с ним, решительно сказала:
– Ну, вы наконец убедились, что со мной бесполезно хитрить?
Центурион прикинул, что бы такое он мог сказать, дабы исправить свою глупость, и, решив, что самым лучшим будет сбросить маску, спросил с нарочитой циничностью:
– Что передать от вашего имени Красной бороде?
– От моего имени, – ответила Фауста с царственным презрением, – ничего. А от вашего – скажите ему: цыганка обязательно явится на корриду, потому что в этой корриде должен принять участие ее любовник. Дону Альмарану, почти неотлучно находящемуся при особе короля, наверняка известно, что замышляется какое-то злодейство, которое будет осуществлено во время корриды. Он также должен знать, что это происшествие, тщательно подготовленное господином Эспинозой и задуманное Филиппом, не обойдется без суматохи. А уж его дело – воспользоваться случаем (или же при необходимости – создать его) и завладеть той, которая так для него желанна. Теперь о вас: я желаю знать все, что затевают мои противники, а посему вам ни в коем случае нельзя заронить в них ни одного зернышка сомнения. Следовательно, вы целиком предоставите себя в распоряжение Красной бороды и поможете ему в этом деле, которое должно непременно увенчаться успехом. Все остальное касается уже только вас. Для меня важны только два обстоятельства: Жиральда должна быть навеки потеряна для дона Сезара, а я никак не буду в это замешана. Вы понимаете?
Счастливый, что так легко отделался, наемный убийца поспешил ответить:
– Понимаю, сударыня. Я буду действовать, как вы прикажете.
Принцесса холодно отозвалась:
– Советую принять все возможные меры, чтобы это дело завершилось удачно. Вам надо многое искупить, сеньор Центурион.
Дон Христофор содрогнулся. Он понял смысл этой угрозы, понял, что его жизнь зависела теперь от успеха завтрашнего предприятия.
Значит, он добьется успеха любой ценой. И злодей уверенно заявил:
– Цыганка исчезнет, хотя бы мне и пришлось для этого заколоть ее своими собственными руками.
Произнося эти слова, он вглядывался в лицо Фаусты, желая узнать, как далеко она позволяет ему зайти.
Фауста махнула рукой с видом полного безразличия.
Итак, главное, чтобы Жиральда исчезла, а как именно это произойдет – принцессу не интересует. Именно так истолковал ее жест Центурион.
Давая понять, что не собирается возвращаться к этой теме, Фауста невозмутимо произнесла:
– Нам пора.
Центурион отправился за факелом, спрятанным под возвышением, и зажег его.
Казалось, в этом зале была лишь одна дверь – именно через нее скрылись заговорщики; дверь эта открывалась в подземную галерею, которая выводила за пределы стены, окружавшей дом с кипарисами.
Однако герцог Кастрана и его друзья удалились через какой-то невидимый выход.
Сама Фауста вошла через третью дверь, тоже тщательно замаскированную.
Центурион, стоявший с зажженным факелом в руке, спросил:
– Какой дорогой вы пойдете, сударыня?
– По той же, что и герцог.
Возвышение располагалось на некотором расстоянии от стены. Услышав ответ Фаусты, Центурион обогнул его и открыл находившуюся тут маленькую потайную дверку.
Затем, не оборачиваясь, уверенный, что принцесса следует за ним, он вступил под своды тесной галереи, начинавшейся от этой двери, и подождал, пока Фауста окажется рядом с ним.
Он уже слышал шаги принцессы.
Фауста обогнула возвышение и уже собиралась исчезнуть в галерее, но неожиданно застыла на месте.
Звонкий голос, слишком хорошо ей известный, насмешливо произнес:
– Соблаговолит ли принцесса, стремящаяся возродить империю Карла Великого, уделить минутку своего драгоценного времени такому бедному страннику, как я?
Фауста остановилась как вкопанная, она не смогла даже сразу обернуться.
В глазах ее сверкал мрачный огонь, мысли метались, сердце бешено колотилось.
«Пардальян! Проклятый Пардальян!.. Значит, как он и предвидел, яд оказался бессилен против него! Пардальян вышел из могилы – а ведь я была уверена, что замуровала его туда навсегда! И каждый раз повторяется одно и то же! Как только я решаю, что убила его, он появляется вновь, живее и насмешливее прежнего. В довершение ко всему, он еще и проник в мои замыслы: недаром же он иронически сравнивает меня с Карлом Великим. И как назло никого нет рядом! Он вдоволь может насмехаться надо мной, а потом спокойно уйти – и некому будет его остановить! Некому будет нанести ему удар!.. А здесь это было бы так легко сделать!..»
Заметим, принцесса вовсе не боялась за свою жизнь, хотя она и могла бы предположить, что шевалье, доведенный ее бесчисленными злодеяниями до крайности, накинется на нее и задушит голыми руками. (Он имел бы на это полное право, заметим в скобках.) Но, может, она полагала, что ее час еще не пробил?
А может, она лучше самого Пардальяна знала бесконечное великодушие этого человека, который ограничивался тем, что защищал свою жизнь, постоянно оказывавшуюся в опасности, и не давал себе труда отвечать ей ударом на удар, потому что она была женщиной? Скорее всего, дело обстояло именно так. Как бы то ни было, она не испытывала никакого страха за саму себя.
Но ее терзало собственное бессилие: ведь она никому не может отдать приказ убить его, раз и навсегда покончить с ним; а он настолько обезумел, что, имея полную возможность спокойно уйти из своей темницы, вместо этого – безоружный! – пришел сюда, к ней, чтобы бросить вызов!
Это чувство бессилия было столь мучительным, что Фауста подняла к потолку исступленный взгляд, словно желая испепелить им самого Господа Бога, который с таким упорством вновь и вновь возвращал на ее неизменный путь это живое препятствие – и каждый раз именно тогда, когда она считала, что окончательно устранила его; впрочем, возможно, что, будучи верующей, она требовала, чтобы Бог немедленно пришел ей на помощь.
Но вот она опустила глаза и в полутьме подземелья заметила Центуриона – он разыгрывал бешеную пантомиму, значение которой было ей вполне ясно:
– Задержите его ненадолго, – говорили жесты Центуриона, – а я побегу за подмогой, и уж на этот-то раз он от нас не скроется!
Принцесса легонько кивнула, показывая, что поняла, и только тогда обернулась к своему врагу.
Вся эта сцена потребовала довольно долгого описания, однако на самом деле она произошла в одно короткое мгновение.
Фауста очень надеялась, что Пардальян ничего не заметил. Она по обыкновению замечательно владела собой, а если и чуть помедлила, прежде чем обернуться, то это можно было списать на счет удивления. Зато, когда она взглянула на шевалье, ее лицо было столь невозмутимым, взор столь безмятежным, а жесты столь спокойными, что Пардальян, который отлично ее знал, все же невольно залюбовался.