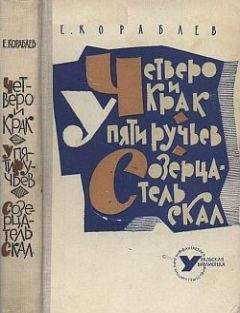Капитан д'Оберэ широким жестом указал на Петра, который тоже включился в игру и, опершись о перила веранды, как это делал покойный герцог Танкред, гордый и надменный, стоял рядом, словно позировал портретисту, выразительно сжимая в правой руке папскую грамоту.
— … единственным законным, истинным, владетелем и правителем Страмбы, герцогом Пьетро Кукан да Куканом…
И капитан д'Оберэ, сияя от восторга, размахивал и громыхал колокольцем, понимая, что речь его имеет успех, — перед гостиницей уже собралась толпа зевак.
— Единственное условие для вступления в нашу армию, — продолжал капитан, — храброе сердце, здоровые руки и ноги и доброе оружие. Используйте эту возможность, которая предоставляется раз в столетие, благословите минуты, когда мы посетили ваш город, издревле прославленную Перуджу! Докажите, что ваша поговорка, гласящая: «Perusini superbi, boni soldati», — справедлива!
— А сколько заплатите? — спросил миловидный черноволосый подросток, что стоял в первых рядах, опираясь о копье, которое, по-видимому, он носил не зря, потому что оно было испачкано кровью.
— Пешим копьеносцам десять цехинов наличными, конным — двадцать наличными, пешим мушкетерам — двадцать наличными, конным — тридцать, а тому, у кого есть меч и кто умеет с ним обращаться, три цехина в придачу, за каждый годный к употреблению пистолет два цехина в придачу, жалованье всем без исключения полцехина в день плюс еда и фураж, — объявил капитал д'Оберэ.
— Капитан, вы сошли с ума! — прошептал ему испуганный Петр.
— Дешевле не пойдет, — ответил капитан.
— А кого вы предпочтете, распанти или беккекерини? — продолжал миловидный юноша с окровавленным копьем.
Это был щекотливый вопрос, но капитан д'Оберэ умело вышел из положения.
— Я приглашаю распанти для того, чтобы они наказали графа Гамбарини за то, что он мошенническим образом выдает себя за одного из них, но беккекерини также поступят славно, если оттаскают его за уши за то, что он столь же незаконным образом примазывается к их лагерю.
— Согласен! — сказал юноша.
— Имя? — спросил капитан.
— Алессандро Барберини. С конем.
— Алессандро Барберини, — повторил капитан, положил на перила веранды бумагу и подал юноше гусиное перо, обмакнув его в чернила. — Здесь подпишись.
— Писать не умею, — сказал юноша, обнажив великолепные зубы.
— Не важно, я подпишу за вас, а вы поставите три крестика, — сказал капитан.
— А деньги? — спросил юноша, поставил около своего имени кляксу и старательно вывел три неуклюжие перекрещенные черточки.
— Каждому будут выплачены завтра на рассвете, перед началом похода, — ответил капитан. — Потому что если я вам, мерзавцы, выплачу их сейчас, вы скроетесь и завтра у меня не будет ни души.
Капитан знал, что выиграл, и поэтому позволил себе говорить просто, по-военному.
— Следующий! — сказал он.
— Базио Бероальдо.
— Следующий!
— Джордже Перуцци. У меня меч и мушкет.
— Следующий!
— Джованни Панини.
Имен прибавлялось, их было уже двадцать, потом стало тридцать, сорок, пятьдесят, семьдесят, и Петр с беспокойством подсчитывал, сколько это будет стоить, когда заметил, что к веранде приближается прихрамывающий, очевидно, больной подагрой, пожилой господин, аккуратно одетый, с очками на носу, с какой-то бумагой в руках; его сопровождали пятеро вооруженных людей в форме, на груди у них был герб города Перуджи — мифическая птица грифон, окруженная гирляндой цветов. На площади к тому времени все уже успокоилось, из окон дворца приора, откуда еще недавно стреляли, выглядывали, удобно облокотясь на подоконники, спокойные люди, о которых и не подумаешь, что они умеют держать оружие в руках; деревенский парень в холщовой куртке наконец решил покинуть фонтан и переступил через его ограду неуклюжими мокрыми ногами, обмотанными тряпьем, а двое из элегантных господ перед собором закурили трубки; воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь шагами хромого господина и его телохранителей. Толпа, вдруг сникнув, стала безучастной и, расступившись перед ними, образовала широкий проход; при этом те, что стояли с края прохода, поворачивались боком, и Петр явственно увидел на их лицах общее выражение бессильной злобы и ненависти к пришедшему.
Хромоногий медленно приблизился к веранде и шепелявя обратился к Петру и капитану д'Оберэ:
— Господа, кем бы вы ни были и откуда бы вы ни пришли, властью, данной мне должностью подесты издревле славного города Перуджи, призываю вас прекратить незаконную, добрым нравам противную деятельность. — Произнося эту тираду, он непрестанно заглядывал в свою бумагу, словно хотел быть уверенным, что говорит правильно, придерживаясь буквы закона. — Во-первых, в республике и в городе Перудже строго запрещено заниматься вербовкой солдат и уводить таким образом наших граждан за пределы государства, nota bene — для достижения авантюрных, подозрительных, даже сомнительных целей.
Позади него заворчали, а у фонтана кто-то даже свистнул, но все разом стихло, едва подеста повернулся, отыскивая того, кто свистел.
— Тихо! Вам, разбойники, меньше всего надо бы свистеть и ворчать, у меня ведь точно записано, кто из вас дрался и кто что натворил, но об этом мы еще поговорим в надлежащее время. — Он снова повернулся к веранде и продолжал бубнить, не переставая заглядывать в свою бумагу. — Это во-первых, господа. Ваш вербовочный список по праву, данному мне должностью, я конфискую, и те, кто завербовался, за это ответят. Ну, а теперь — во-вторых. Один из вас будто бы выдает себя за герцога Страмбы. Верно ли это?
— Нет, — сказал Петр. — Я не выдаю себя за герцога Страмбы, я и есть сам герцог.
Подеста мрачно взглянул на него поверх своих очков.
— Так, так, вы изволите быть герцогом Страмбы, это на самом деле интересно. Когда же вы стали им?
— Неделю назад, — сказал Петр. Толпа разразилась хохотом, но подеста, не обладавший чувством юмора, даже не улыбнулся.
— Тихо, а вы, господа, будете привлечены к ответственности за пренебрежительное отношение к официальным постановлениям, — сказал он.
— Ох, сколько ответственности! — удивился Петр. — Тем не менее это делает мне честь, коль скоро я могу быть первым среди всех, кто должен нести ответственность перед Вашим Подестовством. Прошу вас заглянуть в этот документ.
И он с поклоном подал подесте папскую буллу. Старый господин осторожно и с недоверием взял бумагу в руки и обстоятельно осмотрел круглую печать, подвешенную к грамоте, прежде чем развернул ее и принялся читать. При этом его лицо оставалось неподвижным, и все же он весь как-то съежился.