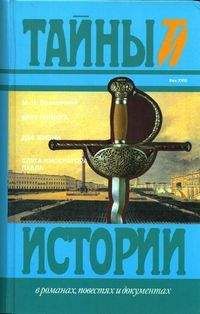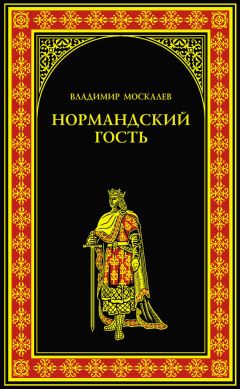Но статности фигуры и миловидной красоты лица никто не отрицал у Платона Зубова. Что он — красавчик, все это находили и повторяли в один голос; это он и сам знал и щеголял своей красотой.
IV
Сознавая свою красоту, Зубов стал заботиться о ней особенно тщательно с тех пор, как попал в честь и знатность. С утра, пока в его приемной толпились важные сановники в ожидании чести быть принятыми, он посвящал свое время такому же уходу за собою, как могла это делать разве только молодая кокетливая женщина.
Того широкого размаха барственности и расточительной щедрости, которою отличался Потемкин, у Зубова и тени не было. Пышность и роскошь, которыми он окружил себя с первых же дней своего могущества, выказывали только его жадность и сквалыжничество. Несмотря на свою склонность к музыке, он и не думал покровительствовать искусствам, и ни один художник, ни один музыкант не был поощрен им. Он не приобретал ни картин, ни ценных вещей, выдающихся искусством отделки, но покупал себе необделанные самоцветные камни и прятал их в шкатулку, причем любимым занятием его было, открыв шкатулку, пересыпать камни из одной руки в другую.
Единственно, к чему еще имел кажущееся пристрастие Зубов, это к нарядам и к всевозможному платью, но и то потому, что это платье приносили и подавали ему помимо его заказов и распоряжений, так что ему оставалось только выбирать любое.
Все эти черты характера определились у Зубова очень скоро и, конечно, немедленно были подмечены окружавшею его челядью, приставленною к нему в качестве прислуги. Его парикмахеры, портные, камердинеры, выездные и дворецкие сразу угадали, как именно надо служить ему, и окружили его целою системой сплетен, наушничанья, доносов и шпионства. В глаза Зубову все старались, разумеется, аттестовать себя друзьями, а за глаза все ему были враги, потому что завидовали ему и злорадно мечтали о том, что он ведь может так же легко сойти на нет, как легко и неожиданно для всех возвысился.
Наблюдали и шпионили за ним, но подметить пока ничего не могли, потому что для Зубова слишком была заметна перемена между тем, что он был и что стал, и он слишком боялся упустить упавшее на его голову «счастье». Он боялся потерять это счастье и с трепетом душевным прислушивался ко всему тому, что ему нашептывали.
При дворе императрицы боролись тогда два течения, или две силы: влияние цесаревича Павла Петровича и своевластие светлейшего Потемкина. Все остальные маленькие стремления, подчас даже принимавшие облик значительности, все-таки так или иначе примыкали к одному из этих противоположных полюсов придворной петербургской жизни того времени.
Может быть, будь Платон Зубов умнее и пожелай рассудить и выбрать, кого и как ему держаться в его новом положении, он сбился бы, запутался бы и оказался бы не в силах разобраться в тех тенетах, которые плелись во дворце в ежедневных закулисных буднях. Но он не рассуждал и не раздумывал, а инстинктивно начал действовать, с чисто животным самосохранением огрызаясь в ту и другую сторону. А так как он находился ближе всего к источнику всех благ и милостей, то и имел возможность воздействовать. И мало-помалу как бы само собою образовалось третье течение — его, Платона Зубова, старавшегося без разбора сокрушить все, что могло так или иначе вредить ему. При этом он не разбирал важного от неважного, действовал огулом, и в этом, пожалуй, был залог его успеха.
Зубов считал себя на такой высоте, где равного ему не может быть, так как всякий, кто смел рассчитывать сравняться с ним, тем самым становился его соперником, а этого было достаточно, чтобы он явился его злейшим врагом. Поэтому дружбы, всегда предполагающей союз равноправных, не могло существовать для Зубова. Он знал теперь людей, льстивших и пресмыкавшихся перед ним (их было большинство) и открыто выказывавших ему свое презрение. Таких было немного, но они все-таки существовали, и их особенно ненавидел Зубов.
Каждый день во время туалета, пока парикмахер тщательно занимался его прическою, подавали ему на золотом подносе груду писем и записок. Тут были приглашения на всевозможные балы, празднества, обеды, спектакли, так как все, разумеется, наперебой желали видеть у себя такую персону, какой стал Зубов, а многие нарочно тратили тысячи, чтобы задать для него пир. Затем здесь были просьбы и жалобы по самым разнообразным личным делам и, наконец, целый ряд анонимных писем с доносами, предупреждениями и всякими наветами, которые сочинялись либо ярыми интриганами, либо просто злыми людьми, рассчитывающими таким образом отмстить и разделаться со своими врагами.
Приглашения Зубов отбирал и сортировал, одни — отбрасывая, другие — оставляя. Просьбы и жалобы он разрывал не читая; что же касается анонимных писем с доносами, то их он тщательно собирал, прочитывал с большим вниманием и терпением и прятал в особый портфель, старательно и аккуратно прикладывая одно к другому те из них, которые относились к одному и тому же лицу.
Между прочими у него набрался порядочный запас анонимных сведений о его товарище по полку Сергее Проворове, таком же секунд-ротмистре, каким был и сам он еще недавно. Таинственные корреспонденты, не подписывавшиеся своими именами и заверявшие в своей преданности и безусловной готовности принести всякую пользу, предупреждали Зубова, чтобы он остерегался секунд-ротмистра Проворова, который сильно рассчитывает рано или поздно занять его место и обладает какими-то таинственными ходами, которыми он может воспользоваться для достижения этой цели. Ведь необходимо принять во внимание, что и случайное возвышение самого Зубова произошло как раз на дежурстве, которое он занял вместо Проворова, что дает-де последнему в особенности надежду считать свои мечты осуществимыми.
Зубов никогда не был любим в полку, взаимно тоже не любил вообще товарищей и держался от них в стороне. Но среди этих товарищей был кружок так называемых «теплых ребят», которые особенно изводили его своими насмешками и против которых он таил особенную злобу. Главным коноводом этого кружка был ротмистр Чигиринский, а его последователем — Проворов.
Зубов давно уже не без злорадного удовольствия помышлял о том, как теперь посчитаться с ними. Анонимные же письма, предупреждавшие его еще об опасности со стороны Проворова, доказывали ему уже прямую необходимость взяться за дело самым серьезным образом.
V
Когда пришла очередь дежурить опять полку Конной гвардии в Царском Селе, Зубов был осведомлен об этом, потому что велел подавать себе ежедневно записку о том, какие воинские части занимали караулы во дворце. Увидев в списке дежурящих офицеров имена Чигиринского и Проворова, он осклабился злорадною улыбкою. Ему было приятно сознавать, что вот они там где-то дежурят и должны будут ночь не спать и в бессонную эту ночь на дежурстве обдумывать свои делишки — как достать денег или беспокоиться о своей лошади, которую, того и гляди, опоит или иначе как-нибудь испортит конюх, а он, Зубов, в свое удовольствие нежится тут же, во дворце, который они стерегут, и не только ни о чем не беспокоится, но стоит только ему пожелать, и они были бы осчастливлены. Захочет он — и они получат награду или солидный куш денег и смогут себе купить еще двух лошадей, заплатить долги и кутнуть в свое удовольствие.