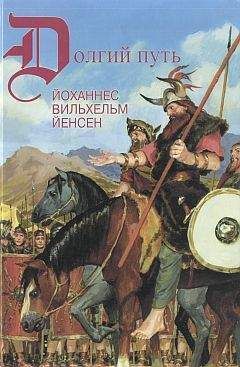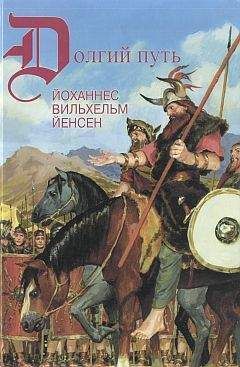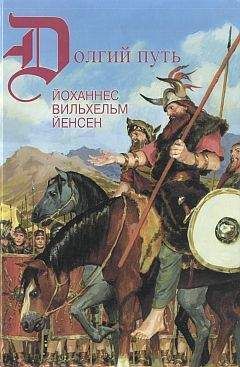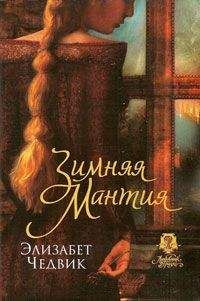Дренгу, однако, приходилось напрягать все силы, чтобы поспевать по следу, и за первые часы гонки расстояние между дичью и преследователем все увеличивалось. Но вскоре Дренг начал наверстывать расстояние почти незаметно, но достаточно для того, чтобы стоило продолжать охоту. Ночью Дренг отдохнул несколько часов, поел и поспал, а на следующий день должен был до полудня бежать по следам, пока снова не увидел свою дичь.
Следующей ночью преследуемый человек попытался пустить в ход жалкие уловки: перешел через воду, вернулся назад и спрятался в каменистом поле; но Дренг снова выследил его, поднял и погнал, преследуя по пятам. Они успели пробежать уже много-много миль и очутились теперь в совершенно незнакомой Дренгу местности.
Целые табуны диких лошадей срывались с места, вскачь описывали круги, останавливались и смотрели на Дренга, проносившегося мимо них забористой рысью. Дренг на бегу скрежетал зубами не с самым кротким видом. Вообще, эта погоня мало отличалась от его ежедневной охоты – разве только тем, что дичь на этот раз была благороднее и желаннее, чем обычно.
В последний день беглец уже продвигался вперед медленно, заметно ослабевая. Теперь они выбежали к воде и повернули вдоль берега, усыпанного мелким песком, круглыми камешками и разными диковинными штучками. Дренг с любопытством приглядывался ко всему, что видел на берегу, и принюхивался к бившему в нос острому запаху, но ни разу не приостановился. С этим можно было подождать – догонять оставалось каких-нибудь несколько минут. Человек впереди еще бежал, но силы его оставили, и по спине его видно было, как ему тяжело. Наконец он покатился на песок, приподнялся и попытался двинуться дальше, но уже на четвереньках; охота была окончена.
Дренг двойными прыжками приближался к своей добыче, не бросая, однако, в нее копье и не держа наготове топор; тут достаточно было и зубов; и он уже заранее облизывался, предвкушая, как утолит голод, а главное, жажду. Вдруг он увидел, что это была женщина. Она лежала на коленях, уткнувшись лицом в песок, в ожидании своей участи. Она не издала ни звука, когда Дренг дотронулся до нее; он перевернул ее, и взгляды их встретились. Всякая мысль об убийстве исчезла у него. Разумеется, ее надо оставить в живых.
Но он все-таки оскалил зубы в последней вспышке мстительного чувства за все то огромное напряжение и труд, которых стоила ему эта охота.
И у женщины выражение ужаса в глазах сразу пропало, как только она почувствовала, что останется в живых, а затем она тоже оскалила зубы, словно собираясь укусить; но ни один из них не укусил другого. Это была первая улыбка.
С тех пор они стали скитаться вместе. Их было только двое на Леднике – единственная людская чета на севере.
Солнце прорвало тучи и увидело, что других нет… так возникла моногамия.
Тут кстати рассказать, как Дренг много-много лет спустя, прожив со своей женой целый человеческий век внутри страны, был охвачен неизлечимым, хотя и неизнурительным недугом – страстной тоской по морю.
Начало ей было положено тем, что он никогда не мог забыть той трапезы из свежих раковин, которою он и женщина утолили свой голод на берегу моря, когда он догнал ее, и на их свирепых лицах появилась первая улыбка. Воспоминание об этой трапезе, когда Дренг впервые отведал соленой пищи, стало для него единственным, которое он всегда бессознательно приветствовал, словно вспоминая что-то новое, важное.
С вкусовым воспоминанием сплеталось еще удивительно ясное и приятное воспоминание о часах, проведенных тогда с Моа (имя это дали ей впоследствии ее дети) во время их отдыха на песчаном берегу. Дренг исследовал круглые камешки и другие незнакомые предметы; кое-что оказалось съедобным, хотя и не все было одинаково вкусно. Потом он глубоко вдыхал в себя запах моря, воды которого были чернее всех вод, которые когда-либо ему приходилось видеть, и не имели берегов по другую сторону – насколько хватало глаз. И на вкус эта вода была другая, странная, но довольно приятная, если не пить ее слишком много. Белые птицы с резким криком летали над волнами, катившимися куда-то далеко-далеко.
Не дал ли тогда Дренг обещание самому себе вернуться туда опять, а потом забыл его? Не оно ли взывало к нему? И почему тот день был так прекрасен, так невыразимо приятен сам по себе, что воспоминание о нем стало скрытым источником всего, что с тех пор Дренг с грехом пополам делал по доброте? Вспоминая спустя много лет о том дне, он покачивал головой, и Моа во время скитаний, подымая глаза от своей ноши, нередко подмечала, как по суровым чертам мужа пробегал какой-то слабый светлый луч, что-то вроде улыбки, скользнувшей по его лицу тогда на берегу. Моа догадывалась, что муж тоскует о чем-то, но вряд ли о ней, и смиренно поправляла на спине поклажу, всегда увенчанную грудным малюткой. Для нее во всем мире не было ничего, перед чем бы она преклонялась более, чем перед священной тоской мужа, и она выражала свое участие немой, беззаветной преданностью и готовностью сопутствовать ему до самой смерти.
Да, Дренг тосковал по морю. Годы отделяли его от краткого мига, проведенного на берегу; его жизнь стала сплошной зимой, но тот миг так и остался незабвенным, единственным. Неведомое прокралось в его сердце в тот краткий миг, когда он сидел на белом песке и смотрел на волны, катившиеся в неведомую даль, куда его взор не мог следовать за ними. Было что-то в том чудесном миге, что вошло в его кровь и плоть и предопределило участь его самого и его рода.
Но он не знал и никогда не постиг, что тоска по морю была мистической и нераздельной со светлым чувством, забрезжившим в его сердце, когда он впервые взглянул в глаза бедной загнанной Моа.
А теперь перейдем к будням. Начиналась зима, и Дренг с Моа добровольно пошли ей навстречу, пробираясь на север к краю Ледника; так Дренг обжился и чувствовал себя как дома; там они и зажили, перенося всякие лишения и превратности судьбы, сначала кочуя с места на место, потом оседло, и с годами образовали семью.
Холод не был новостью для Моа; она научилась переносить любое время года. Мало-помалу Дренг стал присматриваться к тем маленьким полезным приемам, которые она пускала в ход для самозащиты. Они были очень непритязательны и появлялись как-то сами собою и все-таки никто из привыкших к жизни в лесах не додумался бы до них. И Моа не думала, а попросту вводила их в обиход. Одежду, которая была на ней при встрече с Дренгом, она тоже изобрела сама, и Дренгу полезно было узнать, что двое людей, не подозревая даже о существовании друг друга, могли напасть на одну и ту же мысль. Это и послужило первой причиной того, что он решился нарушить цельность своего «я» и с благодарностью разделил с Моа свое одиночество; они образовали первый маленький союз на земле. В первобытных лесах мужчина и женщина сходились, как волки, и ни одна женщина там не становилась матерью без метки на загривке, оставленной зубами мужчины; Дренг с Моа были первой человеческой четой, которая сожительствовала, глядя в глаза друг другу.