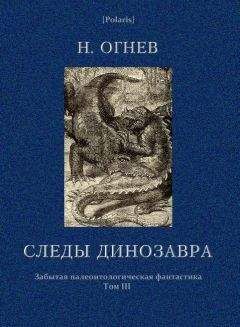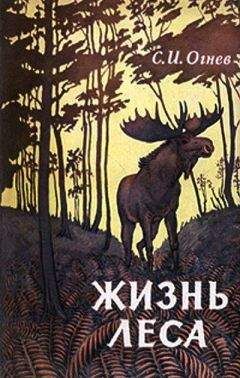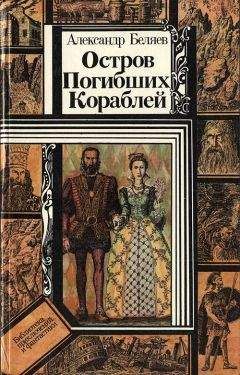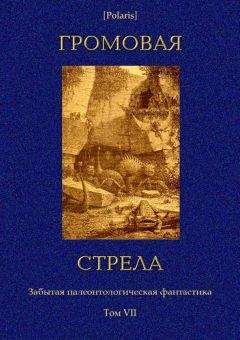— Уууууу… Ууууу…
И никто вначале не заметил точки, появившейся над горизонтом. Зачем смотреть на небо, когда на земле невиданный во всей тысячелетней истории Китая — такой праздник, праздник не для богатых, а для бедноты. Но точка неуклонно росла, близилась, расширялась, стала крестиком, и вот уже — ровный рокот мотора. Тысячи глаз в небо. Воздушная машина, несущая смерть. Враг или друг? Скорее — враг.
Дула винтовок устремились вверх. Толпы шарахнулись от трибун. Пулеметы задрали короткие морды.
Но самолет уверенно снижался, и вот уже стали видны на его крыльях красные солнца.
— Японец!
Залп, залп… Гигантские трещотки пулеметов.
И вдруг — с самолета — ало-голубое знамя Гоминдана.
Свои!!!
Но самолет уже у самой земли, судорожно выравнивается… и вот уже колеса катят его по земле.
С машины один за другим сошли трое. Один из них — в форме гоминдзюновского офицера — подошел к группе начальников, протянул пакет. Вытянулся и отчетливо произнес:
— Почтительное донесение от цзяня четвертой народной армии Хаоли-Фу блистательному Революционному Совету Гоминдана.
— Ман-шьюоууу!.. — грохнула толпа.
— В самую центру попали, товарищ Френкель, — сказал Антипыч, оглядываясь кругом.
— Какая разница с народной армией, — подумал Френкель, впервые сходя на благословенную землю Южного Китая и вглядываясь в стройные ряды обутых и подтянутых солдат Кантонской армии.
— Э, братишка, что же, — пыхал перегаром какой-то ужасной водки обнявший Ваську Свистунова солдат. — Нечто они люди? Они вроде обезьян. Опять же — разбойники. Хунхузы они, вот они кто. И самый ихний главный — Чжан — старикашка — тоже хунхуз. Наша офицерня, конечно, к нему подслуживается, — ну, это все от мамона. Видел я его, Чжана-то. Ну, как есть из наших, из воронежских мужиков старого понятия. — Солдат вздохнул.
— А ты давно из России? — угрюмо спросил Васька. Тело болело и ныло, кисти рук, сдавленные наручниками, саднили; кроме всего прочего, хотелось есть.
— Я из России давно, — помолчав, ответил солдат. — Я, братишка, из России с самого Колчака. Забыл, с чем ее едят, Россию-то. — Солдат нехорошо ухмыльнулся. — Польстились мы на водку на дешевую… эххх!..
— Продали, стало быть, Россию за выпивку, — подковырнул Свистунов.
— Про-дали, — протянул было солдат, но внезапно обозлился: —А ты, знай-помалкивай, сволота… Помни, что ты есть арестованный. Тоже разговаривает.
Двуколка загромыхала по камням. Узкая уличка как-то сразу кончилась, открылась большая площадь. Возница-китаец, не переставая нахлестывать мула, обернулся и странно подмигнул Свистунову. Свистунов, недоумевая, осматривался кругом, и внезапно заметил: к телеграфному столбу на расстоянии четырех метров от земли была прикреплена человеческая голова; поодаль, у плетня, стояло распятое безголовое туловище.
— Вот как с вашим братом-коммунистами разделываются, — хвастливо сказал солдат. — Да вон, никак, еще одного угробить хотят…
На площади казнили не одного, а несколько китайцев. Полуголые желтые люди со связанными назади руками были поставлены на колени; около каждого высились большие белые доски с китайскими надписями; палачи в солдатских гимнастерках размахивали древними монгольскими секирами. Кругом, в отдалении, толпились отдельные кучки зрителей. Впрочем, народу было немного, видно было, что зрелище нередкое.
— Ну, а как в России-то? — спросил солдат, которому, видно, надоело молчать. — Голод, чай?… Падаль жрут?
— Да ведь я арестованный, — невесело ответил Свистунов. — Мне нельзя разговаривать.
— Говорили — налоги непомерные… Седьмую шкуру, будто, дерут.
— Кто семь шкур носит, с того седьмую и дерут… — неохотно ответил Васька; ему не хотелось разговаривать; тело продолжало болеть; где-то внутри родилась, и пошла разгуливать по всему телу мелкая противная дрожь.
— Не хошь ли хлебнуть? — неожиданно и вполне дружелюбно предложил солдат, вытащив из-за пазухи бутылку с мутной жидкостью. — Рисовая, ханшин называется. Градусов на пятьдесят будет…
Васька отказался. Солдат хлебнул сам, спрятал бутылку и достал из кармана краюху серого хлеба. Разломив ее пополам, солдат предложил Ваське. Хлеб был сырой и невкусный, весь в крупинках махорки; Васька стал, однако, есть с удовольствием. В штаб притащились к вечеру. Китайские солдаты окружили Ваську и повели в низенький, опутанный колючей проволокой, дом. Представитель китайского генерала — некий чин в шелковом халате — был надут и важен. Русский офицер с одутловатым лицом казался его подчиненным.
— Ты что, комсомол? — лениво и нехотя спросил офицер, наставляя на бумагу американскую автоматическую ручку.
Васька молчал.
— Молчать будешь? — так же лениво продолжал офицер. — Хуже будет, сукин сын. Прижгут подошвы — заорешь белугой.
Васька молчал.
— А, вот ты какой, голубчик? Ну, ладно. А в общем могло бы и обойтись. Например: паек, жалованье и все такое. Свобода. Как думаешь? Все молчишь? Все равно — заговоришь, да поздно будет… Так вот: с тебя требуется только одно: признай, что большевики прислали тебя и других на подмогу китайским большевикам. И что едет еще несколько партий.
Васька молчал. Офицер встал, лениво раскачиваясь, подошел к Ваське и внезапно, со всего размаху, ударил его по носу. От неожиданности Васька ударился о стену, но тотчас же пружиной отскочил и ринулся на офицера. В тот же момент Ваську схватили сзади несколько человек.
Очнулся Васька — зверски избитый и связанный — на платформе бронепоезда; кругом сидели несколько русских солдат с винтовками. Ваську куда-то везли.
Все началось очень просто: старшина приказал Чин-Бао-Си отдать в пользу ангодзюна последнюю и очень тощую овцу. Когда Чин-Бао-Си стал возражать, старшина пригрозил ему минь-туанами. Чин-Бао-Си отвел овечку в дальнее поле, посадил в яму и прикрыл негодным бамбуком. Тогда пришли минь-туаны и стали бить Чин-Бао-Си по спине, по животу и даже по лицу — до тех пор, пока Чин-Бао-Си, охая и кряхтя, повел минь-туанов в поле и показал овцу. При этом минь-туаны всю дорогу говорили Чину о том, что он, старый слон, не хочет, чтобы во всей Небесной стране настал мир, а наоборот: хочет войны и беспорядков.
Чин-Бао-Си очень хотел мира и порядка, но еще больше он хотел, чтобы никто не мешал ему обрабатывать свое поле, чтобы никто не отбирал урожая, чтобы его животные были действительно его животными, чтобы никто, в том числе минь-туаны, не приходили с дракой отбирать их в пользу какой угодно армии.