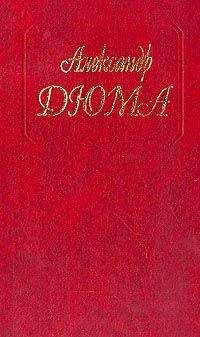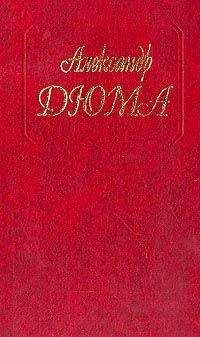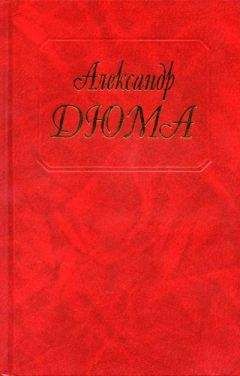— Да мне нечего вам поведать, дядя, я уже все выложил. Я люблю, вот и все.
— Однако есть одна немаловажная вещь, о которой ты умолчал, мой дорогой.
— О чем же, дядя?
— Ты мне сказал, что любишь; верно. Но не сказал, любят ли тебя.
Лицо Петруса залила краска, что и было самым красноречивым ответом. Но Петрус сидел в тени, генерал не заметил его румянца.
— Что же мне вам на это ответить, дядя?
— Ты не понимаешь, что меня интересует? Я хочу услышать, любит ли она тебя.
— Я никогда ее об этом не спрашивал.
— И правильно делал, мальчик мой: о таких вещах не спрашивают, их угадывают, их чувствуют. И что ты почувствовал? Что угадал?
— Не скажу, что чувство, которое я внушил мадемуазель де Ламот-Удан, так же сильно, как мое, — дрожащим голосом отвечал Петрус, — но мне кажется, что Регина встречается со мной с удовольствием.
— Извини! Теперь ты меня не понял. Хорошо, я уточню свой вопрос. Полагаешь ли ты, что в сложившихся обстоятельствах, то есть при условии взаимной симпатии, мадемуазель де Ламот-Удан приняла бы твое предложение и согласилась стать твоей женой?
— Ах, дядя, мы не настолько близко знакомы!
— Но если ничто в обычном чередовании дней и ночей не изменится, вы придете к этому, мой мальчик, в один прекрасный день или в одну прекрасную ночь.
— Дядюшка…
— Ты не хочешь на ней жениться?
— Но, дядя!..
— Не будем больше об этом, распутник!
— Умоляю вас, дядя…
— Хорошо, давай поговорим!
— Да, давайте поговорим, ведь вы коснулись надежд, на которые я не отваживался даже в мечтах!
— А-а!.. Дорогой племянник, если ты сделаешь предложение мадемуазель Регине де Ламот-Удан, скажи, пожалуйста, положа руку на сердце, согласится ли она стать твоей женой? Прошу заметить, что в таком притязании нет ничего чрезмерного. Хотя твой отец — сущий разбойник, ты все равно потомок славного рода Куртене, мальчик мой. Наши предки правили Константинополем! Жослены уже были седовласыми старцами, когда у Ламот-Уданов только прорезывались молочные зубы. За их гербом — маршальский жезл Франции, за нашим — недоступная им императорская корона.
— Если уж говорить всю правду, дядя…
— Всю, мальчик мой!
— … или, во всяком случае, то, что я думаю…
— Скажи, что ты думаешь!
— Хотя я никогда не строил планов на будущее, но я думаю, что, если только моя бедность не явится препятствием, мадемуазель де Ламот-Удан не откажется от моего предложения.
— Таким образом, дорогой племянник, если вдруг — сразу тебе скажу, что это маловероятно, — я поправлю твое положение, оставив тебе часть состояния после своей смерти, — прошу заметить, что я весьма далек от подобной мысли, — итак, выражаясь точнее, дам тебе необходимые средства, признаю своим наследником и, следовательно, это препятствие будет устранено, то ты думаешь, что мадемуазель де Ламот-Удан согласится выйти за тебя замуж?
— Положа руку на сердце, думаю, да.
— Так вот, дорогой племянник! Повторяю тебе то, что уже говорил по поводу твоего друга, который отказался от креста: ты слишком наивен для своих лет!
— Я?
— Да.
— Что вы хотите этим сказать?
— Что мадемуазель де Ламот-Удан не выйдет за тебя.
— Почему, дядя?
— Потому что закон запрещает женщине иметь двух мужей, а мужчине — двух жен.
— Двух мужей?
— Да, это называется двоемужие, или полигамия. По этому поводу в «Господине де Пурсоньяке» есть песенка.
— Я не понимаю ни слова из того, что вы говорите. Объяснитесь!
— Через две недели мадемуазель де Ламот-Удан выходит замуж.
— Это невозможно, дядя! — смертельно побледнев, вскрикнул молодой человек.
— Невозможно!? Ты говоришь как истинный влюбленный.
— Дядя! Небом вас заклинаю, сжальтесь! Говорите яснее!
— Кажется, я и так ясно выразился и расставил все точки над i: мадемуазель Регина де Ламот-Удан выходит замуж.
— Замуж! — в недоумении повторил Петрус.
— И я дорого заплатил за то, чтобы это узнать, видит Бог! Ведь она выходит за моего так называемого сына!
— Дядя, вы меня с ума сведете! Какой еще сын?!
— О, успокойся, я его не признал, хотя его любящая маменька сделала для этого все что могла.
— За кого же она выходит, дядя?
— За полковника графа Рапта.
— Господина Рапта?
— Он самый! Да, Петрус, это любезный, порядочный, прославленный господин Рапт!
— Он же на двадцать лет старше Регины!
— Можешь сказать: на двадцать четыре, дружок, учитывая, что он родился одиннадцатого марта тысяча семьсот восемьдесят шестого года, то есть ему уже минул сорок один год, а мадемуазель Регине де Ламот-Удан всего семнадцать… Фу, черт, считай сам!
— А вы в этом уверены, дядя? — опустив голову, спросил молодой человек сдавленным голосом.
— Спроси у самой Регины.
— Прощайте, дядя! — вскакивая, воскликнул Петрус.
— Что значит «прощайте»?
— Я пойду к ней и все узнаю!
— Чем позже пойдешь, тем больше узнаешь. Доставь мне удовольствие, сядь на место.
— Но, дядя…
— Какой я тебе дядя, неблагодарный?!
— Я неблагодарный?
— Разумеется! Только неблагодарный племянник может бросить дядю в момент, когда начинается старательное переваривание пищи. Нет бы предложить рюмку Кюрасао, чтобы помочь этому… Ну-ка, Петрус, подай своему дядюшке Кюрасао!
Молодой человек уронил руки.
— И вы можете шутить над моим горем?
— Ты знаешь историю о копье Ахилла?
— Нет, дядя.
— Что за воспитание дал тебе твой разбойник-отец! Он не выучил тебя древнегреческому языку, не научил читать Гомера в оригинале! Ты обязан это прочесть, несчастный! Хотя бы в переводах госпожи Дасье или господина Битобе! Я расскажу тебе эту историю. Секрет копья заключался в том, что его ржавчина заживляла нанесенные им раны. Я тебя ранил, мальчик мой — теперь я же попытаюсь тебя вылечить.
— О дядя! Дядя! — пробормотал Петрус, падая перед генералом на колени и целуя ему руки.
Генерал с нежностью взглянул на молодого человека.
— Сядь, дружок, и будь мужчиной! — произнес он спокойно и строго. — Поговорим о господине Рапте серьезно!
Петрус повиновался. Он, шатаясь, подошел к креслу и рухнул в него как подкошенный.
VIII. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ ГОСПОЖИ МАРКИЗЫ ИОЛАНДЫ ПАНТАЛЬТЕ ДЕ ЛАТУРНЕЛЬ
Генерал некоторое время с состраданием смотрел на муки своего племянника — муки, которые сам он уже не способен был испытывать, но еще не забыл, что и с ним такое случалось.
— А теперь, дорогой Петрус, — продолжал он, — внимательно послушай, что я тебе скажу. Тебе это будет поинтереснее, чем Дидоне и ее придворным — история Энея, хотя, как сказал поэт: