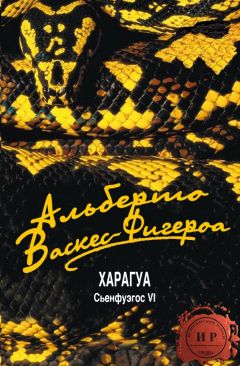Поскольку обоим нечего было поставить на кон, ставкой в игре стал щелчок по лбу, и бывали дни, когда у рыжеволосого козопаса голова прямо-таки раскалывалась от полученных щелбанов, а на душе становилось по-настоящему горько при виде того, как радуются туземцы каждой победе негритянки.
— Это невозможно! — повторял он снова и снова. — Невозможно! Ты жульничаешь...
Но единственная ловушка заключалась в том, что африканке удалось внушить канарцу такую неуверенность себе, когда дело касалось этой дурацкой игры, что бедняга слишком сильно волновался и в результате вечно ставил отметину совсем не там, где надо.
Между тем, они продолжали куда-то идти. Унылая степь, поросшая чахлой растительностью, сменялась то небольшими островками сельвы, то жаркой пустыней, усеянной кактусами, то бесчисленными озерами, нередко загрязненными жирным и вонючим «мене», убивающим все живое. Так они почти две недели скитались по окрестностям, озабоченные лишь тем, где бы найти чистую воду, охотясь на попугаев и обезьян, раскапывая кладки черепашьих яиц и мало чем отличаясь от полудюжины оголодавших индейских семей, попавшихся на пути, чьи убогие жилища являли собой лишь ряд жердей, прислоненных к стволу дерева.
Далеко на юге виднелся горный хребет, но воины упорно не желали к нему приближаться. Когда Сьенфуэгос спросил, почему они избегают гор, туземцы дали понять, что хребет занят враждебным племенем, от которого лучше держаться подальше.
— Карибы? — спросил канарец. — Каннибалы?
— Не карибы, — ответили ему. — Не каннибалы. Мотилоны.
Мало-помалу Сьенфуэгос начал все лучше разбираться в языке этого отряда молодых воинов и находить общее с определенными формами арауканского или асаванского диалекта, на котором говорили жители Кубы и Гаити. И наконец, он научился их понимать, хотя и с определенными сложностями.
Между тем, чернокожая Асава-Улуэ-Че-Ганвиэ тоже прилагала весьма похвальные усилия к тому, чтобы выучить язык этих милых людей, причем язык давался девушке с обескураживающей легкостью, словно от этого зависела ее жизнь и будущее.
— В конце концов, — сказала она Сьенфуэгосу как-то на закате, когда они вместе любовались невероятной красотой заходящего солнца, — мой единственный дом — этот тот, где я сплю, а единственная родная земля — та, по которой хожу. Я почти не помню свою родину и мечтаю забыть корабль, где выросла. Здесь мне хорошо, а будет еще лучше, я точно знаю.
— Я скучаю по Гомере.
— Ты скучаешь по своей блондинке, — насмешливо ответила негритянка. — Может, приготовить тебе магический отвар, чтобы ты ее забыл? Твоя жизнь сразу станет спокойней.
— А зачем мне жить, если я ее забуду? — он обвел руками окружающую местность. — Не думаю, что у меня есть какое-то иное будущее, кроме как тупо прорываться вперед в попытке спасти свою шкуру, вечно находясь на волоске от гибели. Какой смысл пережить столько бедствий, если я ее забуду? Единственное, что держит меня на свете, это вера в то, что однажды я встречусь с Ингрид.
— А если она тебя забыла?
— Я живу своими воспоминаниями, а не твоими, — ответил канарец с легкой грустью в голосе. — Я не дурак и не стану притворяться, будто верю в то, что виконтесса лелеет воспоминания о тех днях, которые провела с жалким неграмотным пастухом, даже не понимая его речи. В последний раз я видел ее пять лет назад и смирился с неизбежным, но это не изменит моих чувств.
— Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь полюбил меня так же, — вздохнула Уголек.
— Для этого ты должна сначала полюбить сама.
— Это не так просто, — покачала она головой. — Если ты знаешь лишь борова вроде капитана Эва, да того бедного парнишку, которому пришлось пить расплавленный свинец, это совсем непросто, — печально улыбнулась Уголек. — Я ведь еще девственница.
— Я этого не знал. — Немного помолчав, канарец решился спросить, смущенно краснея: — А что, это имеет какое-нибудь значение?
— Для женщин моего народа — имеет, и очень большое.
— Но сейчас мы далеко от твоего народа, — напомнил Сьенфуэгос. — Ингрид не была девственницей, когда мы с ней познакомились, но я никогда не знал более совершенной женщины. Мне даже в голову не приходило, что такой пустяк может сделать ее хуже или лучше. — Он устремил взгляд вдаль, в безлюдную пустыню, что открывалась перед ними, сияя под полуденным солнцем, и лукаво подмигнул: — Разве не глупо болтать о таких вещах в такой час и на такой жаре?
— Да, пожалуй, — негритянка сделала жест рукой, словно указывая на невидимых туземцев. — Кажется, они удивлены, почему мы не занимаемся любовью.
— Я тоже это заметил.
— И почему же мы это не делаем?
— Потому что в эти минуты мне гораздо нужнее верный друг, чем любовница.
— Мне нравится быть твоим другом, — улыбнулась она.
— Мне тоже.
— Но я совсем не уверена, что мне бы понравилось быть твоей любовницей.
— И я в этом совсем не уверен.
— Боюсь, что на этой жаре у нас обоих вконец расплавились мозги.
Она не получила ответа, потому что канарец сомлел на жаре и закрыл глаза. Они замолчали, тихо потея в самой огромной в мире бане. Тишина стояла такая, словно земля вдруг перестала кружиться, поскольку в кошмарных полуденных температурах этого враждебного региона на северо-западе современной Венесуэлы всё вокруг словно вымирало, сквозь тяжелый воздух не доносилось ни единого звука, казалось, он слишком густ для существования ветра.
Не свистели цикады, не пели птицы, даже мухи погружались в летаргию, потому что солнечные лучи могли их просто-напросто сжечь. Будто Создатель каждый день специально устраивал такое пекло, чтобы спокойно лицезреть свое творение при свете дня, и никто не смог бы его отвлечь.
Позже, когда раскаленный огненный шар лениво катился дальше, в сторону заката, в ноздри заползали первые мухи, влажные потные тела неохотно оживали и медленно приходили в сознание, задаваясь вопросом, по какой гнусной причине человек никогда не может быть хозяином собственных снов.
Прекрасное лицо Ингрид снова терялось в тепловатом сумраке горного леса, голоса друзей снова возвращались в могилы, звон колокола маленькой церквушки навсегда затихал вдали, и впереди опять открывался бесконечный путь из ниоткуда в никуда.
Но все начало меняться в тот день, когда на удушающей жаре, от которой вскипала кровь, в далекой дымке, превращающей песок в воду, пошатываясь показалась человеческая фигура.
Сьенфуэгос приоткрыл глаза и не сразу признал, что это человек — безумец, не побоявшийся погибнуть от жажды. Он держался очень прямо и двигался совершенно спокойно; на нем не было никакой одежды, если не считать красной ленты на лбу, и никакого оружия за исключением длинного шеста на плече.