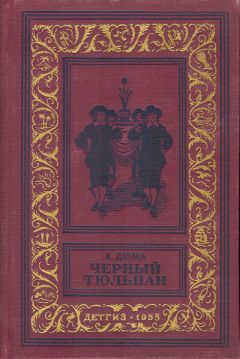Как назвать это детище моих бдении, моего труда, моих мыслей? “Tulipa nigra Barlaensis”[37]… Да, Barlaensis. Прекрасное название. Все европейские тюльпановоды, то есть, можно сказать, вся просвещенная Европа, вздрогнут, когда ветер разнесет на все четыре стороны это известие.
— Большой черный тюльпан найден.
— Его название? — спросят любители.
— Tulipa nigra Barlaensis.
— Почему Barlaensis?
— В честь имени творца его, ван Берле, — будет ответ.
— А кто такой ван Берле?
— Это тот, кто уже создал пять новых разновидностей: “Жанну”, “Яна де Витта”, “Корнеля” и т. д.
Ну что же, вот мое честолюбие. Оно никому не будет стоить слез. И о моем “Tulipa nigra Barlaensis” будут говорить и тогда, когда, быть может, мой крестный, этот великий политик, будет известен только благодаря моему тюльпану, который я назвал его именем.
Очаровательные луковички!
Когда мой тюльпан расцветет, — продолжал Корнелиус, — и если к тому времени волнения в Голландии прекратятся, я раздам бедным только пятьдесят тысяч флоринов, ведь в конечном счете и это немало для человека, который, в сущности, никому ничего не должен. Остальные пятьдесят тысяч флоринов я употреблю на научные опыты. С этими пятьюдесятью тысячами флоринов я добьюсь, что тюльпан станет благоухать. О, если бы мне удалось добиться, чтобы тюльпан издавал аромат розы или гвоздики или, даже еще лучше, совершенно новый аромат! Если бы я мог вернуть этому царю цветов его естественный аромат, который он утерял при переходе со своего восточного трона на европейский, тот аромат, которым он должен обладать в Индии, в Гоа, в Бомбее, в Мадрасе[38] и особенно на том острове, где некогда, как уверяют, был земной рай и который именуется Цейлоном. О, какая слава! Тогда, клянусь! Тогда я предпочту быть Корнелиусом ван Берле, чем Александром Македонским, Цезарем или Максимилианом[39].
Восхитительные луковички!..
Корнелиус наслаждался созерцанием и весь ушел в сладкие грезы.
Вдруг звонок в его кабинете зазвонил сильнее обычного.
Корнелиус вздрогнул, прикрыл рукой луковички и обернулся.
— Кто там?
— Сударь, — ответил слуга, — это нарочный из Гааги.
— Нарочный из Гааги? Что ему нужно?
— Сударь, это Кракэ.
— Кракэ, доверенный слуга Яна де Витта? Хорошо. Хорошо, хорошо, пусть он подождет.
— Я не могу ждать, — раздался голос в коридоре.
И в тот же момент, нарушая запрещение, Кракэ устремился в сушильню.
Неожиданное, почти насильственное вторжение было таким нарушением обычаев дома Корнелиуса ван Берле, что он, при виде вбежавшего в комнату Кракэ, сделал рукой, прикрывавшей луковички, судорожное движение и сбросил две из них на пол; они покатились; одна — под соседний стол, другая — в камин.
— А, дьявол! — воскликнул Корнелиус, бросившись вслед за своими луковичками. — В чем дело, Кракэ?
— Вот, — сказал Кракэ, положив записку на стол, на котором оставалась лежать третья луковичка. — Вы должны, не теряя ни минуты, прочесть эту бумагу.
И Кракэ, которому показалось, что на улицах Дордрехта заметны признаки волнения, подобного тому, какое он недавно наблюдал в Гааге, скрылся, даже не оглядываясь назад.
— Хорошо, хорошо, мой дорогой Кракэ, — сказал Корнелиус, доставая из-под стола драгоценную луковичку, — прочтем, прочтем твою бумагу.
Подняв луковичку, он положил ее на ладонь и стал внимательно осматривать.
— Ну, вот, одна неповрежденная. Дьявол Кракэ! Ворвался, как бешеный, в сушильню. А теперь посмотрим другую.
И, не выпуская из руки беглянки, ван Берле направился к камину и, стоя на коленях, стал ворошить золу, которая, к счастью, была холодная.
Он скоро нащупал вторую луковичку.
— Ну, вот и она.
И, рассматривая ее почти с отеческим вниманием, сказал:
— Невредима, как и первая.
В этот момент, когда Корнелиус еще на коленях рассматривал вторую луковичку, дверь так сильно сотряслась, а вслед за этим распахнулась с таким шумом, что Корнелиус почувствовал, как от гнева, этого дурного советчика, запылали его щеки и уши.
— Что там еще? — закричал он. — Или в этом доме все с ума сошли!
— Сударь, сударь! — воскликнул, поспешно вбегая в сушильню, слуга. Лицо его было еще бледнее, а вид еще растеряннее, чем у Кракэ.
— Ну, что? — спросил Корнелиус, предчувствуя в двойном нарушении всех его правил какое-то несчастье.
— О, сударь, бегите, бегите скорее! — кричал слуга.
— Бежать? Почему?
— Сударь, дом переполнен стражей!
— Что им надо?
— Они ищут вас.
— Зачем?
— Чтобы арестовать.
— Арестовать, меня?
— Да, сударь, и с ними судья.
— Что бы это значило? — спросил ван Берле, сжимая в руке обе луковички и устремляя растерянный взгляд на лестницу.
— Они идут, они идут наверх! — закричал слуга.
— О мой благородный господин, о мое дорогое дитя! — кричала кормилица, которая тоже вошла в сушильню. — Возьмите золото, драгоценности и бегите, бегите!
— Но каким путем я могу бежать? — спросил ван Берле.
— Прыгайте в окно!
— Двадцать пять футов.
— Вы упадете на пласт мягкой земли.
— Да, но я упаду на мои тюльпаны.
— Всё равно, прыгайте!
Корнелиус взял третью луковичку, подошел к окну, раскрыл его, но, представив себе вред, который будет причинен его грядам, он пришел в больший ужас, чем от расстояния, какое ему пришлось бы пролететь при падении.
— Ни за что, — сказал он и сделал шаг назад.
В этот момент за перилами лестницы появились алебарды солдат.
Кормилица простерла к небу руки.
Что касается Корнелиуса, то надо сказать, к чести его (не как человека, а как цветовода), что всё свое внимание он устремил на драгоценные луковички.
Он искал глазами бумагу, во что бы их завернуть, заметил листок из библии, который Кракэ положил на стол, взял его и, не вспомнив даже — так сильно было его волнение, — откуда взялся этот листок, завернул в него все три луковички, спрятал их за пазуху и стал ждать.
В эту минуту вошли солдаты, возглавляемые судьей.
— Это вы доктор Корнелиус ван Берле? — спросил судья, хотя он прекрасно знал молодого человека. Он в этом отношении действовал согласно правилам правосудия, что, как известно, придает допросу сугубо важный характер.
— Да, это я, господин ван Спеннен, — ответил Корнелиус, вежливо раскланиваясь с судьей. — И вы это отлично знаете.
— Выдайте нам мятежные документы, которые вы прячете у себя.
— Мятежные документы? — повторил Корнелиус, ошеломленный таким обращением.