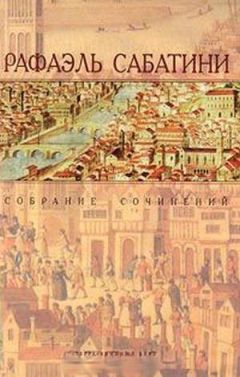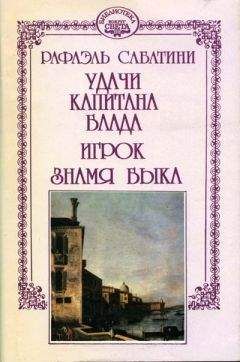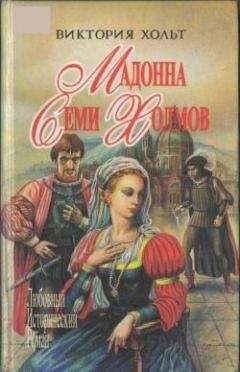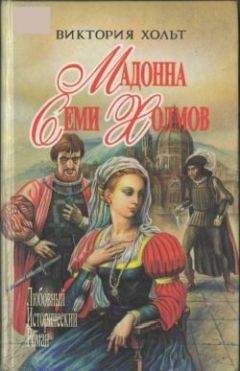— Ему не приходилось надеяться на милость синьора Джованни из Пезаро, — заметил я.
Она, казалось, призадумалась.
— Но вы поедете со мной в Пезаро? — вновь спросила она.
— Конечно; могу ли я оставить вас в одиночестве? — отозвался я, мысленно обзывая себя трусом за то, что, полагаясь на ее покровительство, рассчитывал проникнуть ко двору Джованни Сфорца.
— Ничего не бойтесь, — заверила она меня. — Заботу о вашей безопасности я беру на себя.
Ярко-желтая полоска зари уже начинала разгораться на востоке. В такое время года начинало светать примерно в первом часу утра[44], и я прикинул, что до Пезаро осталось вряд ли более двух лиг.
Наконец, с вершины очередного холма мы увидели в отдалении неясные очертания крепостных стен и башен, черневших на фоне белоснежного ландшафта, а сразу за ними слабо поблескивала гладь моря, к которому стремилась серебряная лента реки, петлявшая по равнине, расстилавшейся к востоку от города. Мадонна Паола указала рукой вперед и радостно вскрикнула:
— Мы почти доехали, мессер Бьянкомонте! Мужайтесь, друг мой; еще совсем немного, и мы у цели.
И в эту минуту мне действительно пришлось призвать на помощь все свое мужество, поскольку мои силы стремительно убывали. Беспрерывная тряска по неровной дороге — а может быть, долгая беседа — привела к тому, что из моих ран вновь стала сочиться кровь, и в тот момент, когда мадонна Паола была готова пришпорить своего мула и устремиться вниз по склону холма, я вскрикнул, покачнулся в седле и неминуемо упал бы на землю, если бы она не успела вовремя схватить меня за локоть.
— Что с вами? — по-матерински заботливо спросила она. — Вам нехорошо?
Впрочем, мое состояние было настолько очевидным, что едва ли нуждалось в комментариях.
— Это моя рана, — с трудом произнес я, опираясь на ее руку.
— Если я стану поддерживать вас и мы поедем шагом, вы сможете держаться в седле? — отважно спросила она. — Постарайтесь, мессер Бьянкомонте.
— Я попробую, мадонна, — ответил я, до боли стиснув зубы: что и говорить, досадно потерпеть крушение в такой близости от спасительной гавани. — Я буду молчать, чтобы не тратить силы. А если я не смогу следовать за вами, то при свете дня вы без помех доберетесь до Пезаро и одна.
— Я не оставлю вас, мессер, — категорично заявила она, и мне показалось, что при этих словах я почувствовал некоторый прилив сил.
— Будем надеяться, что вам не придется пойти на такой шаг, — чуть бодрее отозвался я, и мы возобновили путь.
Святый Боже! Каких только испытаний не выпало на мою долю в течение следующих двух часов, пока мы тащились по равнине, ослепительно искрившейся под лучами встававшего из-за моря солнца.
«Я должен доехать до ворот Пезаро», — беспрестанно бормотал я себе под нос, словно уговаривая сам себя, и — о чудо! — моя истерзанная плоть подчинилась моей воле.
Я смутно помню, как мы пересекли подъемный мост, миновали величественную арку Порта Романа, городских ворот, выходивших на дорогу, ведущую в сторону Рима, и как старший из стражников окликнул нас.
— Боккадоро? — удивился он, узнав меня. — Быстро же ты вернулся.
— Как Персей, спасший Андромеду[45], — еле ворочая языком, проговорил я, — и лишь чуть более окровавленный, чем он. Перед вами мадонна Паола Сфорца ди Сантафьор, кузина нашего светлейшего синьора.
Затем все поплыло у меня перед глазами, голос стражника превратился в неразборчивое негромкое гудение, и я, как мне тогда показалось, погрузился в глубокий и желанный сон, от которого я очнулся только спустя два дня. Потом мне рассказали, какое смятение вызвали мои слова, с какими почестями мадонну Паолу сопровождали в замок своего кузена, как она расхваливала мой геройский поступок и как улицы Пезаро оглашались приветственными криками «Боккадоро!», «Боккадоро!», когда четыре солдата проносили плащ с моим бесчувственным телом. Горожане любили меня, и их сильно опечалило известие о моем изгнании. Теперь же, когда их любимец с триумфом вернулся, они обрадовались возможности выразить ему свою признательность, и я сильно сомневаюсь, что имя Сфорца когда-либо возглашалось в Пезаро с таким неподдельным энтузиазмом, как имя его шута в тот день.
Если мадонна Паола и не смогла добиться всего, что она с такой готовностью обещала, ей, однако же, удалось сделать значительно больше, чем я на то надеялся, будучи знаком с характером Джованни Сфорца и зная, как сильно он ненавидел меня. Ее красота буквально очаровала тирана Пезаро, и неудивительно, что он прислушался к ее ходатайству. Но он не был бы Джованни Сфорца, если бы согласился выполнить все ее просьбы, уступая которым он заявил, что простит меня и его личный врач будет ухаживать за мной до моего полного выздоровления. Этого, утверждал он, сейчас более чем достаточно; когда же моя жизнь окажется вне опасности, можно будет решать, в какое русло ее следует направить.
И мадонна Паола, по простоте душевной, поверила этим туманным обещаниям, которыми он всего лишь хотел убедить ее в своем великодушии.
Десять дней я был прикован к постели, терзаемый лихорадкой и страдая от слабости, естественного следствия большой потери крови. Но затем лихорадка унялась, меня стали навещать посетители, и первой среди них была, конечно же, мадонна Паола, пришедшая сообщить мне, что ее заступничество обещало принести плоды.
Но я не стал обольщаться этим — мое положение после всех недавних событий оставалось весьма и весьма двусмысленным.
Другим посетителем оказался мессер Мариани, напыщенный сенешаль Пезаро, всегда симпатизировавший мне и, пожалуй, даже жалевший меня, и я решил воспользоваться его визитом, чтобы выполнить поручение, которое привело меня сюда.
— Своей жизнью я обязан многим счастливым обстоятельствам, — сказал я, — но более всего — доброте синьоры Лукреции. Как вы думаете, мессер Мариани, не согласится ли она посетить меня, чтобы я смог выразить ей свою искреннюю благодарность?
Мессер Мариани пообещал передать ей мою просьбу, и, спустя час, она уже сидела в кресле возле моей постели. Догадываясь, почему я захотел ее видеть, она попросила мессера Мариани, сопровождавшего ее, оставить нас ненадолго наедине; едва за ним закрылась дверь, она обратилась ко мне со словами дружеского сочувствия, и в ее мелодичном голосе звучали нотки искреннего сострадания.
Природа щедро одарила мадонну Лукрецию. Несмотря на то, что ее нос был, пожалуй, несколько длинноват, подбородок, возможно, чересчур мал, едва ли нашелся бы в мире человек, который, увидев ее, остался бы равнодушен к очарованию ее красоты. Ее лицо было свежим, как у ребенка, серые глаза смотрели по-детски наивно, а золотая корона волос заставляла вспомнить о несравненной красоте ангельских локонов, какими их обычно изображают художники.