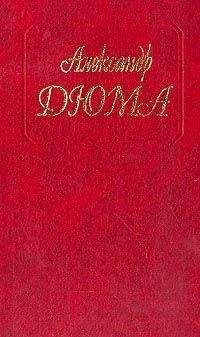— Так ты все слышала?
— Да.
— Выходит, ты подслушивала?
— Не совсем; из туалетной комнаты, где я выливала воду из биде госпожи… порой слышно даже то, к чему не прислушиваешься.
— Допустим! И что же он сказал?
— Он посоветовал госпоже больше не действовать в одиночку, а лучше завести двух или трех любовников.
Флоранс поморщилась от отвращения.
— Не выношу мужчин, — заявила она и сладострастно понюхала букет графини.
— Не удобнее ли госпоже присесть, пока я снимаю чулки? — услужливо предложила Мариетта.
Флоранс молча присела, погрузив лицо в цветы.
Она машинально дала себя разуть, а затем вымыть ей ноги в воде, куда Мариетта добавила несколько капель вытяжки «Тысяча цветов» Любена.
— Какой эссенцией госпожа прикажет надушить воду в биде?
— Той самой, что любила незабвенная Дениза. А знаешь, Мариетта, вот уже полгода я остаюсь ей верна.
— В ущерб собственному здоровью.
— О, я вспоминаю о ней, делая вот так… а в миг наслаждения тихонько призываю: «Дениза!.. Дениза…»
— Сегодня вечером опять обратитесь к Денизе?
— Тсс! — усмехнулась Флоранс, прикладывая палец к губам.
— Похоже, госпожа во мне уже не нуждается!
— Именно так.
— Проснетесь завтра с недомоганием — дело ваше, сударыня, меня не в чем будет упрекнуть.
— Не беспокойся, Мариетта, за завтрашнее недомогание вину я возложу лишь на себя. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, сударыня.
Мариетта вышла, что-то сердито бормоча на ходу по праву избалованной субретки или, что еще хуже, субретки, посвященной во все секреты своей госпожи.
Оставшись в одиночестве напротив псише, освещенного двумя канделябрами, Флоранс прислушалась к шагам удаляющейся горничной и, босиком подойдя на цыпочках к дверям спальни, заперла их на задвижку.
Вернувшись к зеркалу, она при свете свечей вновь прочла записку графини, прижала ее к губам, вложила в букет, лежащий неподалеку на туалетном столике, распустила волосы, развязала ленту сорочки, приложилась губами к своему телу и, освободившись от последней одежды, осталась обнаженной. Флоранс воистину была великолепна: брюнетка с огромными голубыми глазами, обычно обведенными темно-коричневой краской, длинные, ниспадающие до колен волосы, окутывающие, точно покрывалом, несколько худощавое тело, но, несмотря на это, безупречно пропорциональное .
Причину подобной худощавости нам только что сообщила Мариетта. Однако даже эта хранительница тайн своей госпожи вряд ли могла разъяснить, отчего вся передняя часть тела Флоранс заросла густой растительностью.
Причудливые заросли восходили до самой груди, где вкраплялись, точно острие пики, между двумя полушариями. Далее, спускаясь, узор истончался, сливался с темной массой, покрывающей низ живота, вклинивался между бедрами и тут же появлялся внизу спины.
Флоранс необычайно гордилась своим украшением, казалось делавшим ее представительницей обоих полов одновременно; она холила его и с необычайным тщанием опрыскивала духами. Примечательно, что на остальных участках ее смуглая, но прекрасного тона кожа была полностью лишена волосяного покрова.
Вот она, улыбаясь, самодовольно разглядывает себя и поглаживает изящной щеткой своенравный мох, непокорно восстающий под напором щетины. Наиболее благоуханные из цветов она водружает на голову, точно корону; роскошную свою шевелюру по всей длине усеивает туберозами и желтыми нарциссами; на Холме Венеры устраивает розовый сад, прокладывая до самой груди дорожку из пармских фиалок, и, с головы до пят покрытая цветами, упоеннная резкими ароматами, укладывается на кушетку перед псише так, чтобы не упустить из виду ни одного из потаенных уголков своего тела. Наконец взор ее туманится, ноги напрягаются, голова откидывается назад, ноздри раздуваются, губы судорожно сжимаются; пока одна рука пятью растопыренными пальцами обхватывает полусферу груди, другая неудержимо стремится к алтарю, на котором себялюбивая и нелюдимая жрица совершает жертвоприношение: ее палец, слегка дрожа, утопает в розах; трепет наслаждения сотрясает прекрасный стан; за содроганиями следуют невнятные слова, приглушенные вздохи, перерастающие в хрип любви; и в завершение — жалобные стоны, посреди которых трижды звучит имя Денизы, перемежаясь с не менее нежным именем Одетты.
Впервые за истекшие полгода она изменяет своей русской красавице.
Наутро, войдя в спальню хозяйки, Мариетта испытующе огляделась кругом; кушетка перед псише, ковер сплошь усеян цветами, Флоранс в совершенном изнеможении, и ей нужна ванна.
Горничная неодобрительно покачала головой:
— Ах, сударыня, сударыня!
— Что такое? — спросила Флоранс, с трудом приоткрыв глаза.
— Подумать только, лучшие юноши и девушки Парижа готовы на любые безумства ради вас!
— Разве я этого не заслуживаю? — промолвила Флоранс.
— О, речь не о том, сударыня, как раз совсем наоборот!
— Вот и я, следуя их примеру, совершаю безумства ради себя.
— Госпожа неисправима, но будь я на ее месте, то хотя бы для приличия завела бы любовника.
— Не требуй слишком многого, ведь я не выношу мужчин. А сама-то ты их жалуешь, Мариетта?
— Мужчин — нет. Мужчину — да.
— Мужчины любят нас лишь ради того, чтобы потешить собственное самолюбие, стремясь выставить нас напоказ, если мы красивы, либо появиться рядом с нами, если мы талантливы.
Подчиняться мужчине — нет, уволь, для этого ему должно превосходить меня настолько, чтобы вызывать во мне если не любовь, то, по крайней мере, восхищение.
Мать моя умерла рано, я и узнать ее не успела. Отец мой преподавал математику и учил меня верить только в прямые, квадраты и окружности. Бога он называл «великой единицей», Вселенную — «великим целым», а смерть — «великой задачей». Отец покинул этот мир, оставив меня, пятнадцатилетнюю, без средств и без иллюзий. Я стала актрисой, и на что мне теперь вся эта наука? Для того, чтобы большей частью презирать то, что мне приходится играть, и находить в исторических драмах множество ошибок.
На что мне моя душевная тонкость?
Чтобы обнаруживать ошибки в изображении благородных чувств в психологических драмах и пожимать плечами, видя самовлюбленность авторов, которые мне их читают. Мой успех меня не радует — чаще всего это уступка дурному вкусу. Поначалу мне хотелось говорить на сцене естественно — это не произвело впечатления. И тогда я заговорила нараспев — гром рукоплесканий. Поначалу я играла свои роли просто, поэтично, искусно — мне говорили:
«Да, неплохо, недурно». Я размахивала руками, закатывала глаза, вопила — зал сотрясался от возгласов «браво». Мужчины, делающие мне комплименты, превозносят вовсе не то, что я считаю в себе истинно ценным; женщины, рассуждающие о красоте, понимают ее совсем не так, как я.