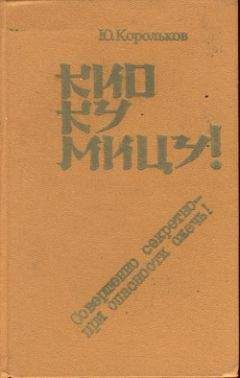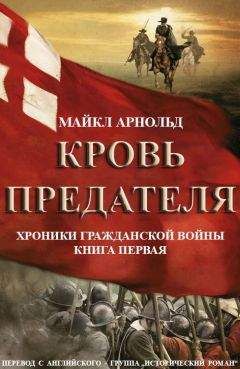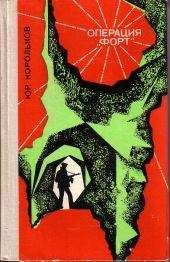В ТЮРЬМЕ СУГАМО
Германский посол продолжал неистовствовать и возмущаться. Не удовлетворенный разговором с министром иностранных дел Того, он поехал к новому премьеру Тодзио, посетил брата императора, но и там и здесь Отт получил отказ.
В Берлин ушла подробная шифрограмма с настоятельной рекомендацией — оказать дипломатический нажим на Японию, проявить жесткость в требовании освободить Зорге. Риббентроп ответил, что обо всем доложено Гитлеру, решение последует позже.
Оберштурмбаннфюрер Майзингер не выходил из своего кабинета, грозил загнать в концлагерь каждого, кто скажет хоть одно дурное слово о Рихарде… Майзингер трудился над документом из двадцати двух пунктов, по которому следовало, что Рихард Зорге ни в чем не мог быть виновен. Этот документ он передаст в кемпейтай, генералу Накамура. Только ему, своему японскому коллеге, — тот должен понять. Полицейский атташе послал доклады в имперское управление безопасности в Берлин Гиммлеру, в абвер всесильному адмиралу Канарису. Он просил шефа гестапо Мюллера подготовить архивную справку о жизни Зорге в Германии. Свое письмо он начал словами: «Мейн либер партайгеноссе Мюллер!» — мой дорогой партийный товарищ…
Немецкий посол и полицейский атташе были готовы поднять на ноги всю Германию, но ничего не получалось — японцы стояли на своем.
Через пять дней после ареста Зорге послу разрешили с ним встретиться в комнате свиданий тюрьмы Сугамо. Следователь предупредил — арестованному можно задать только три вопроса: как он себя чувствует, считает ли себя виновным, в чем он нуждается. И все — таково категорическое условие встречи.
Эйген Отт стоял в дверях комнаты свиданий, сопровождаемый тремя японскими чиновниками, когда через противоположную дверь ввели Зорге. Всегда элегантный, подтянутый, тщательно выбритый, он сейчас был в арестантской одежде, в грубых больших ботинках, заросший густой щетиной. Рихард держался уверенно, стоял с высоко поднятой головой. Рядом с Зорге тоже находились три полицейских.
Отт подался к Зорге, но следователь жестом остановил посла. Разговаривали издали, через комнату. Посол задал первый вопрос:
— Как вы себя чувствуете, Ики?
— Благодарю вас, я ни на что не жалуюсь, — спокойно ответил Рихард.
— Вы считаете себя виновным?
Японцы заволновались.
— Мне только что запретили отвечать на этот вопрос, — кивнул он на свою охрану. — Не будем говорить об этом…
Отт растерялся, для него важно было получить ответ именно на этот вопрос. Он спросил еще:
— Что я могу для вас сделать, Ики?
— Спасибо, мне ничего не надо… Мы едва ли увидимся с вами, господин посол. Передайте привет вашей семье.
Встреча окончилась. Отт торопливо сказал еще:
— Вот это вам просила передать Хельма.
Один из полицейских подошел к Зорге и отдал сверток. Рихарда увели.
В камере он развернул сверток, там были фрукты и теплое одеяло с инициалами Хельмы «X. О.» и еще запонки — подарок Отта. «Запонки-то, пожалуй, ни к чему», — усмехнулся Зорге, взглянув на свою арестантскую куртку.
В продолжение многих дней Зорге держал себя вызывающе, требовал встречи с германским послом, протестовал против незаконного ареста. После встречи с Оттом Рихарда Зорге снова вызвали на допрос. Допрос вел государственный прокурор Ёсикава. Ой опять спрашивал — признает ли Зорге себя виновным в причастности к подпольной организации. Рихард давал односложные ответы, но по наводящим вопросам прокурора он все больше убеждался, что сидевший перед ним маленький японец уже многое знает. Теперь главное заключалось в том, чтобы заслонить остальных, приняв всю ответственность на себя. Это решение созрело окончательно, когда через несколько недель после ареста следователь на очередном допросе вытащил из письменного стола три германских ярбуха, с помощью которых подпольщики шифровали свои радиограммы.
— Вы и теперь станете отрицать свою связь с Москвой?! — воскликнул прокурор, потрясая книжками. — Это ваш ежегодник?
— Да, мой, но какое отношение имеет к делу старый немецкий справочник? — равнодушно спросил Рихард.
— А вот какое! — Ёсикава раскрыл папку и прочитал последнюю телеграмму Зорге, посланную в Москву: — «Все это означает, что войны в текущем году не будет…» Это вы писали? — торжествующе спросил прокурор. — Вам не к чему отпираться. Ключ шифра в наших руках. Теперь-то вы признаетесь, что были шпионом Москвы?!…
Упираться было бессмысленно, но Зорге сказал:
— Я никогда не был шпионом! Я только боролся против войны… Я коммунист и гражданин Советского Союза… Но я хотел бы отложить допрос, сегодня я слишком утомлен. Позже я сам напишу все, что найду возможным.
— Здесь я решаю, когда вести допрос! — сказал Ёсикава. — Впрочем, одну минуту…
Зорге вывели в коридор, государственный прокурор позвонил премьеру Тодзио и доложил, что Зорге признался в том, что он русский коммунист, и просил перенести допрос.
— Ни в коем случае! — закричал в трубку премьер-министр. — Ведите допрос до полного изнеможения арестованного! Иначе вы ничего не добьетесь…
Генерал Тодзио, бывший начальник военной жандармерии в Квантунской армии, знал, как надо вести допросы…
Допрос продолжался, но через несколько часов в изнеможении оказался не Зорге, а государственный прокурор Ёсикава.
Зорге не били, не пытали во время допросов, иностранцев было приказано не трогать — могли произойти дипломатические осложнения. Исключение составлял только Бранко Вукелич. Его считали французом, поскольку он представлял французское телеграфное агентство. А Франция — поверженная страна, кто с ней станет считаться! Вукелич стойко переносил самые ухищренные пытки. Избитого, окровавленного, его приводили в комнату следователя, и он снова молчал. Разъяренный прокурор как-то спросил: «Он кто — француз или американский индеец, откусивший себе язык?! Заставьте же его говорить!» Но Бранко Вукелича говорить так и не заставили.
Пытали, били бамбуками и художника Иотоку Мияги, и он мечтал поскорее умереть — его больное тело, снедаемое туберкулезом, не выдерживало долгих мучений.
Рихард попросил доставить ему пишущую машинку и пачку бумаги, сказал, что от руки писать он отвык, а привыкать снова к перу не хочет… Тяжба арестованного с тюремной администрацией тянулась долго, но победил Зорге. Прокурор распорядился принести арестованному машинку.
И вот он в одиночной камере наедине с раскрытой машинкой на деревянном столе. С чего начать и зачем? Нужно ли все это? Нужно!
Рихард смутно догадывался, чувствовал, что отношение к нему изменилось. Может, его кто-то оклеветал, как же тогда опровергнуть этот навет? Зорге понимал: ему наверняка не выбраться из японских застенков. Так пусть же люди узнают, как он жил, пусть сохранят о нем добрую память. Он, Рихард Зорге, будет повествовать о прошлом, о том, что давно отжило и не может уже повлиять на дела, связанные с группой Рамзая. Начнет он издалека и будет писать не торопясь. Это позволит ему уйти от текущих допросов. В тюрьме тоже важно выиграть время. И пусть это будет его завещанием, его кредо, в котором он изложит свои убеждения, свои взгляды.