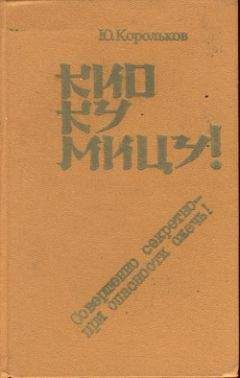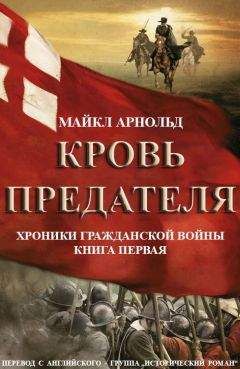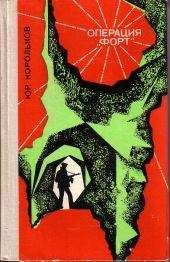Юрий Михайлович Корольков
Кио ку мицу!
Совершенно секретно — при опасности сжечь!
Роман — хроника
В далеком забайкальском городе стоял памятник человеку, подвиг которого сейчас забыт…
Помнится, когда разгромили Квантунскую армию, когда закончилась вторая мировая война, обелиск этот еще стоял на площади недалеко от вокзала. Но уже тогда памятник приходил в ветхость — облицовка на нем отваливалась плоскими, как фанера, кусками, обнажая кладку из могучих лилово-малиновых кирпичей, таких кремнистых, что бери хоть любой на огниво. Таких кирпичей у нас давно не делают, взяли их на памятник, скорее всего, из разбитого купеческого лабаза или развалин церквушки, прекративших существование в гражданскую войну.
Цементные буквы на постаменте, что составляли простую русскую фамилию, тоже осыпались, и памятник сделался безымянным. Памятник стоял чуть не со времен гражданской войны. Может быть, теперь его уже нет, не знаю, — давным-давно не был я в том далеком забайкальском городе…
А воздвигли памятник человеку, который спас, быть может, миллионы людей, предотвратил народное бедствие, нависшее вдруг над Россией, над молодой и неокрепшей Советской республикой. Был тот человек по специальности доктор-эпидемиолог.
По некоторым причинам я не стану пока называть настоящего имени доктора. Не пришло еще, видно, время говорить все до конца… Я назову доктора Александром Никитичем Микулиным…
Из близких Александра Никитича никто уже не помнит, при каких обстоятельствах он вернулся на Дальний Восток. Происходил он из ссыльнопоселенцев — отца угнали в Сибирь еще в конце прошлого века за участие в крестьянском бунте в средней полосе России. Семья Микулиных жила на Аргуни у Нерчинского завода. Перед войной четырнадцатого года студент последнего курса медицинского института Александр Микулин, не успев получить диплом, угодил в армию. Считали, что он легко отделался, — за участие в студенческих беспорядках ему полагалась каторга.
В семейном альбоме сохранилась его фотография того времени: молодой прапорщик лет тридцати с перевязанной рукой сидит, опершись на бутафорскую балюстраду. Здоровой рукой он придерживает эфес сабли, на коленях лежит фуражка. Волевое лицо, задумчивые и одновременно дерзкие сосредоточенные глаза.
Говорили, что после германской войны он партизанил в отряде Сергея Лазо. Воевал с Колчаком, бароном Унгерном, японскими интервентами. Какое-то время учительствовал, потом вернулся к своей специальности.
Вот тогда все и случилось. Александр Никитич заведовал в то время противочумной эпидемиологической станцией, что стояла в стороне от города, за высоким непроницаемым забором, под надежной охраной. Врачи имели дело с активной вакциной чумы, содержавшейся в стеклянных колбах, проводили опыты над грызунами — разносчиками заразы. Лаборатория находилась в центре противочумной станции за вторым забором, охранявшимся еще более строго.
Работали врачи посменно — неделю одна группа, неделю другая. После такой вахты в центре противочумной станции проходили карантин и только тогда возвращались домой. В лабораторию шли через два кордона и связь с внешним миром поддерживали только по телефону.
Стояла зима, морозы были суровые, близился Новый год. В добровольное заключение, как обычно, ушли вшестером — три врача, лаборантка, истопник и уборщица. Вечерами после работы собирались в «кают-компании», как прозвали тесненькую столовую, распивали сибирский чай, крепкий, как чифир, разговаривали, спорили, вспоминали, мечтали о встрече Нового года. Но встретить праздник довелось не всем. Однажды вечером занедужилось уборщице-санитарке, женщине тихой и робкой. Сначала думали — простудилась. Но все же Александр Никитич распорядился ее изолировать, сам смерил ей температуру. Пока ничто не вызывало особой тревоги, а наутро картина стала ужасающе ясна: надрывный, мучительный кашель, невероятная слабость, высокая температура, а главное — кровавая мокрота подсказывали диагноз — чума!
Ошеломленный Александр Никитич вышел из комнаты, остановился в дверях «кают-компании» и глухо сказал:
— Спокойно, товарищи, здесь, несомненно, пастеурелла пестис… Немедленно принять меры для индивидуального карантина. Ухаживать за больной буду я. Со мной — никаких контактов!… Температуру измеряйте каждые два часа.
Лаборантка слушала, сжимая виски концами пальцев. Лицо ее стало бледным, испуганным.
— Александр Никитич, ухаживать должна я, вам это…
— Никаких разговоров! — сухо прервал Микулин. — Выполняйте распоряжение… А вам спасибо, Елена Викторовна, — глаза его потеплели. — Спасибо вам, но я уже был в контакте с больной, мне рисковать нечем…
Он улыбнулся болезненно-грустно, ушел в свой кабинет и стал звонить в горздравотдел, долго крутил ручку эриксоновского настенного телефона, наконец на той стороне провода услышал знакомый добродушный голос:
— Ну как, товарищ Микулин, все в порядке? Новый год встречаешь?
— Нет, не в порядке. Беда у нас!…
— Что за беда?…
— На станции случай пастеурелла пестис… Больна санитарка.
— Что ты сказал?!… Пастеурелла пестис!… Да ты что?!
— Да, да, к сожалению, это так… Сообщите в обком, надо немедленно принимать меры. В городе следует объявить карантин. Для профилактики. Иначе пастеурелла пестис может распространиться на область.
Александр Никитич упорно называл чуму латинским термином — мало ли кто может слушать их разговор.
— Но ты уверен в диагнозе?
— Да, это так… Будем ждать, — заключил разговор Микулин, — может, дай бог, обойдется одним случаем…
Но одним случаем не обошлось. Состояние больной все ухудшалось. Александр Никитич мучительно думал — откуда могла прорваться зараза? Расспрашивал санитарку, та отвечала: не знаю.
Умерла она вечером следующего дня. Перед смертью подозвала Александра Никитича. Он склонился над ней. Санитарка говорила тихо, едва слышно:
— Однако, худо мне, товарищ Микулин… Вот как худо… Помирать, видно, приходится… Значит, не дожгла я эту заразу. Простите вы меня, Христа ради!
— Какую заразу? — Микулин стоял перед ней в халате и плотной маске.
— В склянке которая… Винюсь перед вами, Александр Никитич. Боязно было признаться… Как заступили мы на дежурство, так на другой день и случилось. Уборку делала, хотела как лучше. Ну, рукавом склянку задела, разбила… Я тряпкой затерла и в печку… Вас-то не хотела тревожить…
— А склянка? — ужаснулся Микулин.
— Склянку тоже в печку кинула. Всю до последнего кусочка собрала. Может, зараза-то на халат села, не сообразила его скинуть, думала, обойдется…