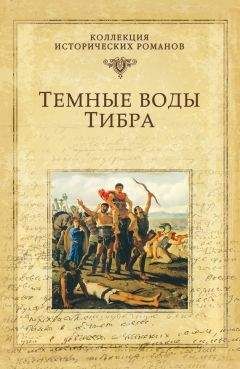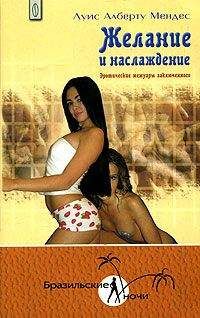Эта зала имела роковое величие подземного склепа. На одной из черных стен возникли слова: «Да, это могила. Человек, входящий сюда, выносит отсюда не свой труп, но очищенную и обновленную душу».
Я был озадачен этим немым ответом на мою мысль. Или, может быть, я подумал вслух?
Буквы изгладились и уступили место следующим словам: «Садись. Пиши. Признавайся».
В этом приказании не было ничего удивительного. Письменные исповеди, или завещания, обычно предшествуют масонскому посвящению. Я сел, взял лежащее на столе перо, но нигде не видел чернильницы.
Не зная, чем писать, инстинктивно повернул голову и прочел на стене: «Пусть твоя жизнь начертит твою жизнь».
Нетрудно было понять, что нужно писать своей кровью. Я вынул шпагу и сделал легкий надрез на левой руке. Кровь вытекала по капле, и я обмакивал в нее перо. Должен признаться, что поскольку у меня не было причины откровенничать с незнакомцами так, как с моим достойным тюремщиком и другом Панкрацио, я счел удобным добавить к рассказу о собственных приключениях несколько вариантов.
Вскользь упоминал некоторые факты, не делавшие мне чести, но зато выпячивал те поступки, которые, по моему мнению, могли подчеркнуть добродетель. Не скрыл, что носил имя Ашарата, что, без сомнения, являюсь сыном одного из могущественнейших властелинов мира и посетил отдаленные страны света, повсюду рассыпая благодеяния.
Едва я окончил этот панегирик, как у меня за спиной раздался громкий смех.
А когда взглянул на мраморную стену напротив, прочел на ней следующее: «Ты лжешь».
Немного смущенный, я признал, что напрасно скрываю истину, которая все-таки довольно неплоха, и снова – взялся за перо с твердым намерением быть на этот раз вполне чистосердечным. Но пергамент, на котором я писал, исчез, и на его месте лежал другой, на заголовке которого было написано: «Извлечение из наблюдательного кодекса».
На этом листе были описаны все подробности моей жизни, начиная с помещения в монастырь в Кастельжироне до настоящей минуты, со всеми подробностями, даже со всеми дурными мыслями, приходившими время от времени мне в голову.
Но больше всего меня удивило, что все это было написано моей рукой. Неужели я находился в таком месте, где необходимость говорить истину уничтожала способность лгать?
Я проникся почтением и ожидал дальнейшего с некоторым беспокойством. Вскоре заметил, что по другой стороне стены медленно двигались какие-то туманные фигуры. Стены, которые казались мраморными, по всей вероятности, были из стекла или хрусталя. Я стал внимательно вглядываться, что за ними происходило.
Вскоре линии и краски определились яснее, составляя лица, костюмы, фигуры. Все эти существа скорее напоминали привидения. Я увидал розовый гранитный дворец, на террасе которого неподвижно сидело двое людей в роскошных костюмах, опершись на шелковые подушки. Вокруг них молча танцевали молодые нагие невольницы, размахивая руками с прикрепленными крыльями ибисов, освежающими воздух. Один из мужчин был в короне первых египетских фараонов. Он держал в опущенной руке скипетр, украшенный драгоценными каменьями. На другом была митра великих жрецов; возле него лежала длинная палка из черного дерева, обвитая золотой ящерицей – эмблемой обожаемого им бога. Жрец и фараон сидели неподвижно, подняв лица к небу.
У подножия дворца расстилались бесконечные желтые пески, по которым множество людей, одни, запряженные в повозки, другие – несущие на плечах камни и мешки с песком, двигались к колоссальной пирамиде, еще не оконченной и поднимавшейся на фоне яркой небесной лазури. Они сгибались под тяжестью, шатались, многие падали и больше не поднимались. Хотя это было довольно далеко, я мог различить их черты. Все лица выражали апатию, усталость и глубокое отчаяние.
Временами толпа останавливалась, с гневом глядя на гигантский монумент, по-прежнему не оконченный, и было ясно, что она не хочет более страдать и работать. Но тогда фараон и жрец вставали и простирали над их головами один – свой скипетр, другой – палку, которые вытягивались, умножались, делались бесконечными и бесчисленными. И эта туча палок обрушивалась на толпу, приказывая ей продолжать свой вечный безысходный труд.
Я повернулся к другой стене. Тут народ-победитель возвращался в родную страну, покрытый пылью и освещенный ярким солнцем. По его мужественной гордости, как и по бронзовому цвету лиц, я узнал греков-лакедемонян. Прелестные женщины, улыбаясь, несли свои цветы навстречу победителям. Даже те, кто напрасно искал братьев и мужей, не плакали. Вдали, на городских стенах, собрались старики, подняв в знак благодарности руки к небу.
Но вокруг города, в долине, копошилось множество несчастных усталых существ. Это были рабы свободных людей, те, у кого не было другого утешения, кроме труда без вознаграждения, чья жизнь была вечным поражением.
Взглянув на третью стену, я вздрогнул от ужаса. Одни, притянутые к каменному потолку веревками, разрывавшими их тело, другие, привязанные к скамьям пыток, мужчины, женщины, дети, голые, все в крови, в страшных муках предстали пред моим испуганным взором. Посреди погреба, где терзали этих несчастных, стоял громадный котел с кипятком, куда были до половины погружены другие жертвы.
А между тем, и в глубине подземелья, в креслах, сидели инквизиторы, спокойно глядя на происходящее.
Я закрыл глаза.
Затем был перенесен к четвертой стене и не мог не улыбнуться. В будуаре, обитом шелком и кружевами, ярко освещенном лампами, сверкавшем позолотою и прозрачной резьбой, покрытом ковром с изображенными на нем полными розовыми нимфами, вырывавшимися из объятий сатиров или собиравшимися купаться, увидал сидящих за богато накрытым столом мужчину и женщину. Они ужинали. Это были французский король и его королева. Она была прелестна, но король зевал. Она протянула руку, как бы указывая: смотри! По другую сторону, из-под полуприподнятой портьеры, король мог заметить бледную фигуру нагой молодой девушки, испуганно отступившей.
Он долго глядел на эту картину и наконец, улыбнулся.
Тогда Людовик XV и мадам Дюбарри стали есть, пить и беседовать. Они, должно быть, говорили друг другу странные вещи, так как глаза их сверкали, и, даже будучи одни, они не решались повышать голос.
Но вдруг мне показалось, что схожу с ума: шампанское в бокалах стало густым и красным, и каждый раз, как ужинающие разрезали дичь, из мертвой птицы выступали капли крови.
В то же время я заметил, что на коврах и на обивке стен были уже не нимфы и сатиры, а несчастные, сидевшие в тюрьмах, или бедняки, умирающие с голоду. Но ни король, ни фаворитка, казалось, не замечали этой перемены. Нет, они не видели, что стены комнаты украшены их живыми жертвами. Людовик XV пил кровавое вино и довольно прищелкивал языком. Вдруг одна из бутылок опрокинулась сама собой, и из горлышка потекла пенящаяся жидкость, покрывшая всю скатерть, забрызгавшая платья ужинавших, разлившаяся по ковру и продолжавшая литься и подниматься, как будто вся кровь измученной Франции лилась из этой бутылки… Под этим поднимающимся приливом исчезли по-прежнему улыбающиеся Людовик XV и мадам Дюбарри…