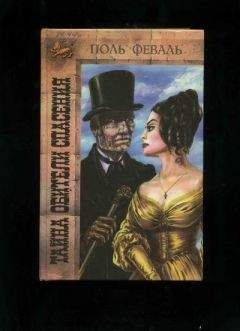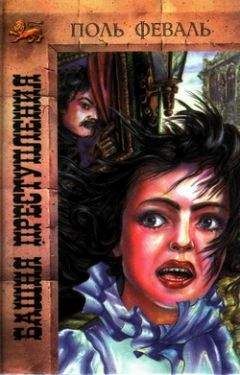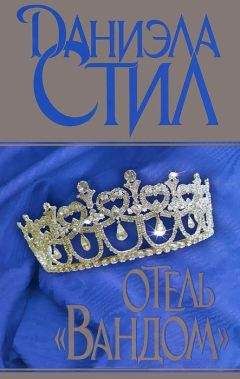Девица остановилась, чтобы посмотреть, в чем дело, вздохнула, бросив жалостливый взгляд на вояку, носильщика и укротителя, поставила корзину на землю, приблизилась к повозке, мощным рывком подняла погнувшийся кузов вверх да и держала его так все время, пока мужчины вставляли новую ось.
Укротитель мог бы вознаградить ее деньгами (в небольшом, правда, количестве, потому как был на мели), но он предпочел предложить ей руку и сердце.
Если бы не это событие, девица, которую звали Бастьенной, спокойненько прожила бы всю свою жизнь среди капусты. Однако судьба распорядилась иначе: Жан-Поль, взяв ее в супруги перед Богом, что случилось на большой дороге из Сен-Бриека в Рен, перекрестил Бастьенну в Леокадию, нарядил в украшенный блестками балахон, оставшийся от покойной жены, и провозгласил знаменитой укротительницей, многажды выступавшей при главнейших королевских дворах Европы.
Брак получился на редкость удачным: Леокадия, несмотря на всю свою могучесть, была красоткой, так что с ней вместе в дом на колесах пришли успех и веселье.
Она вдохновляла супруга на подвиги: в 1832 году на празднествах, проводимых в честь Луи-Филиппа, он дерзнул исполнить на ярмарке роль человека-колосса, явив публике захватывающее зрелище – сто пятьдесят килограммов сала, обтянутых человечьей кожей. Леокадия выступила со своими зверями; положила на обе лопатки медведя, а тигра взгромоздила на плечи, точно теленка.
На досуге она любила поупражняться в силе; Самайу поощрял эти молодецкие игры и иногда даже принимал в них участие. Они устраивали настоящие турниры, и дружеский обмен мастерски нанесенными ударами только увеличивал взаимное уважение супругов.
Однажды вечером после ужина они принялись по своему обыкновению резвиться, и Жан-Полю пришла в голову мысль поиграть гимнастическими гирями весом в 64 килограмма. Развлечение получилось на славу: Леокадия, хохоча во всю глотку, нанесла последний удар столь метко, что супруг с бычьим ревом обрушился на пол. Забавам пришел конец: Жан-Поль больше не поднялся – гиря сразила его наповал.
Леокадия, как сама она призналась друзьям по ярмарке, мучилась не меньше супруга – угрызениями совести, хоть и убила она его не со зла. Она устроила Жан-Полю пышное погребение, полиция же вообще в это дело не вмешивалась, поскольку было достоверно известно, что циркач Самайу отправился на тот свет по недосмотру.
Через месяц Леокадия сочинила об этом трагическом событии жалостливый романс, который и распевала в своем балагане, аккомпанируя себе на гитаре – талантов у нее было хоть отбавляй. Случившееся послужило ей горьким уроком, и она частенько повторяла:
– Бросаться гирями – потеха опасная, ведь он тоже мог бы меня пришибить. Надо же, как глупо все вышло!
Однако успокоилась Леокадия довольно быстро, причем на тот же манер, что и Екатерина Великая, о которой мы упомянули неспроста. Наделенная редкой чувствительностью, она позволила своему сердцу жить по собственной воле и о втором замужестве даже не помышляла.
– Не дай Бог опять какой-нибудь несчастный случай, – говаривала она, – а потом хлопот не оберешься!
Не обременяя себя цепями брака, Леокадия подобно российской государыне, завела толпу фаворитов, которые, хотя и носили имена более скромные, чем Понятовский, Орлов или Потемкин, играли приблизительно ту же роль: приходили и уходили по капризу ее обширного сердца.
При всем том цирковые дела ее процветали. В сентябре 1838 года госпожа Самайу, укротительница с европейским именем, прибыла в Париж и расположилась со своим зверинцем по соседству с площадью Валюбер, где тогда как раз собирались строить Орлеанский вокзал.
Заведение ее, только что заново покрашенное, выглядело настоящим дворцом в сравнении с жалкими балаганами коллег. По бокам служившей для парада-алле галереи висели две огромные афиши, дерзко объявлявшие, что питомцы зоологического сада – это всего лишь кроткая домашняя скотинка, не достойная даже стоять рядом с замечательными дикими зверями госпожи Самайу, первой из укротительниц, первой из сомнамбул и первой из певиц, известной при дворах Португалии и северных королевств.
Было около девяти часов вечера.
По соседству какой-то бедолага-циркач бил в барабан, тщетно стараясь завлечь публику, не желавшую заглядывать в этот пустынный уголок. Двери балагана укротительницы, напротив, были горделиво закрыты: на них висела табличка с надписью, оповещавшей, что на следующий день, в четверг, цирк Самайу дает грандиозное представление для обитателей Парижа, иноземных путешественников и господ студентов.
Во владениях укротительницы было мрачновато и тихо; вся труппа отправилась в город, и только сторожа зверинца мирно подремывали перед клетками.
Из окошка домика на колесах, стоявшего возле балагана, пробивался свет, и даже с улицы можно было разглядеть атлетические формы Леокадии, хлопотливо снующей по комнате.
Помещение, по которому взволнованно бегала укротительница, было столь оригинально, что заслуживает хотя бы краткого описания. Скромными своими размерами эта комната походила на кабину больших лодок, плавающих по Сене, в которых нередко можно увидеть целое семейство – обедающее, спящее или занимающееся хозяйством, хотя самый невзыскательный парижский рабочий отказался бы ночевать в такой конуре даже в одиночку – из страха перед удушьем.
Впрочем, обиталище укротительницы было все же пошире кабины лодки и гораздо живописнее: здесь чувствовалась претензия на роскошь, желание побахвалиться, вступавшее, однако, в явное противоречие с неописуемым беспорядком.
Это был, во-первых, салон: два кресла красного дерева стояли по бокам маленького дивана, застеленного ярким покрывалом в персидских узорах.
Это была кухня, о чем свидетельствовала прикрепленная к перегородке плита, на которой что-то булькало в кастрюле, прикрытой крышкой.
Это был будуар: здесь имелся альков с небольшой кроватью (слишком, заметим в скобках, хрупкой для дамы столь внушительных размеров); там же висели платья, более или менее поношенные, и стоял маленький столик с дерзко разбросанными на нем мелочами ночного обихода.
Это была столовая, подтверждением чему служил стол, накрытый на две персоны.
И наконец, это была туалетная комната: на такую мысль наводили тазик, кувшин с водой, щетки, расчески и другие еще более интимные предметы.
Но всего этого было мало для загромождения столь тесного пространства, так что наверху под потолком тянулась веревка, на которой висели связки лохмотьев в блестках, белье, связки перца и лука, сапоги, дамские ботинки, гитара и старый зонтик.