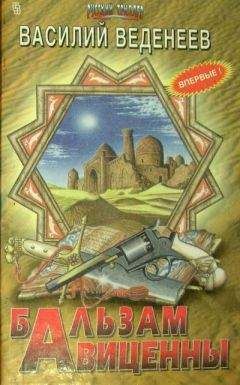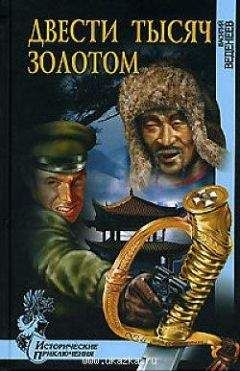Последними выехали на казачьих лошадях Денисов, фон Требин и Кутергин. Рядом с ними шел комендант Тученков, решивший проводить уходивших в неведомое.
– Ну, с Богом! – Он поочередно обнял спешившихся офицеров, царапая их небритой щекой. Ненадолго задержал в своей ладони руку Федора Андреевича и глухо сказал: – Берегите себя, голубчик. Знаете, береженого и Бог бережет. Ладно, езжайте, а мы тут вас ждать станем. Да Денисова-то слушайте, он худого не присоветует!
Услышав совет коменданта, хорунжий только весело оскалился и одним махом взлетел в седло. Поправил ремень шашки, разобрал поводья и нарочито грубовато пробасил:
– Долгие проводы – лишние слезы. Здоровьица вам, Петр Петрович!
Немного отъехав, Кутергин не выдержал и оглянулся – к воротам форта, светлея непокрытой седой головой, четко, как на параде, вышагивал комендант Тученков.
– Пошли, пошли! – Денисов слегка хлестнул плетью коней фон Требина и капитана. Резвые лошади сразу рванули рысью, нагоняя успевших уйти чуть не на версту казаков и повозку. – Не оглядывайся, капитан, не то путя не будет! – Хорунжий подмигнул и лихо сдвинул лохматую папаху набок.
Где-то среди растянувшихся по еще сумрачной степи всадников вдруг словно сама собой возникла песня. Казаки пели протяжно, слаженно, оттеняя каждое слово верно взятой нотой. Федор Андреевич поразился, что так могут петь люди, никогда не учившиеся музыке.
Соловей кукушку уговаривал-да,
Полетим, кукушка, в теплые края-да.
Мы совьем, кукушка, себе гнездышко-да,
Выведем, кукушка, два детеныша-да,
Тебе – кукушонка, а мне – соловья-да…
Песня росла, ширилась, расцветала многоголосьем. Основную мелодию вел высокий чистый тенор, которому могли бы позавидовать многие профессиональные оперные певцы. Ему глухо и гулко вторили басы, а между ними красиво переливались подголоски, подхватывая слова, поднимая мелодию все выше и выше – к голубеющему небу.
Федор Андреевич заслушался, привычно покачиваясь в седле. Поручик фон Требин тоже притих, зачарованный пением, а Денисов ласково щурился и поглаживал окладистую бороду.
– Во как дишкантил, – с гордостью сказал он, когда песня кончилась. – Талант у шельмы!
– Кто же это? – изумился Кутергин.
– Да Кузьма Бессмертный!
Поручик недоверчиво хмыкнул, но тут казаки завели новую песню, и над просыпавшейся степью опять жаворонком взлетел знакомый голос Кузьмы. Его бы в Петербург или Москву с таким-то голосом, а он живет на границе дикой степи. Хотя, кто знает, вдруг, оторвавшись от родных корней, талант зачахнет или не примет его душа чужих, незнакомых с детства мелодий?
– Пускай поют, – вздохнул хорунжий. – Жен и детишков в станицах оставили, а дорога дальняя. Вот душа и тоскует, наружу просится.
– Налегке пошли, – заметил поручик.
– Так казаку много ли надо, – откликнулся Денисов. – Лошадь, ружье, шашка. Остальное в тороках. А там, гляди, добудем чего на пропитание.
На востоке из-за пологих холмов медленно выплывало солнце, и под его лучами степь из призрачно-серой превращалась в диковинный, расшитый цветными шелками ковер. Изумрудно зеленела молодая трава, а уже успевшая пожухнуть на вершинах курганов казалась рыже-бурой, как клочья верблюжей щерсти. Местами желтели проплешины песчаников. Забравшись в невообразимую высь, парил на широких крыльях беркут.
– Матвей Иванович, ты женат? – поинтересовался Kyтeprин.
– С чего решил? – вскинулся хорунжий, очнувшись от своих мыслей. – Нет, не венчаный пока, все недосуг. Отец ругает, а я отнекиваюсь: мол, успею еще. Ты не смотри что у меня волос сивый. Я с малолетства такой, в станице Седым дразнили. А так мне двадцать пятый годок пошел.
Федор Андреевич удивился: он полагал, что Денисов значительно старше. Наверное, бороду хорунжий отпустил для солидности: степняки уважают старость и опыт, а Матвею Ивановичу постоянно приходится вести с ними дела. Кстати, судя по рассказам казаков и коменданта Тученкова, мирный покой в здешних краях не более как призрак. Множество различных родов кочевников делились еще на колена, а между ними тянулась застарелая вражда, причин возникновения которой не помнили даже древние аксакалы. О вражде же между родами и говорить нечего. Постоянно угоняли друг у друга баранов, лошадей и коров. Племенные и родовые князьки содержали вооруженные отряды, похожие на разбойничьи шайки с большой дороги. Однако комендант и хорунжий в один голос твердили, что, несмотря на грабежи и междоусобицу, киргизцы – люди хорошие, приветливые, даже смирные. Вот и разберись тут.
– Ну а ты? – Денисов обернулся к капитану. – Женат?
– Вдовец, – глухо ответил Федор Андреевич. – И месяца не прожили. Простудилась и в одночасье сгорела.
– Царствие Небесное. – Казак небрежно сотворил крестное знамение. – Детишков, стало быть, не осталось? Родни то есть?
– Родители, брат младший, сестра.
– Ну и слава Богу, – кивнул Матвей Иванович. некоторое время ехали молча. Свежие лошади бежали бодро. Казаки перестали играть песни, сбились плотнее, выслали вперед и по сторонам разъезды, рыскавшие по степи и осматривавшие ее с курганов. Солдаты натянули тент над повозкой, так как солнышко припекало все сильнее. Остро запахло травой и терпким конским потом. Над степью повисла легкая дымка испарений, а небо на востоке стало пыльно-серым, обещая удушливую жару.
– Чего опасался Тученков? – Фон Требин привстал на стременах и огляделся. – Тут и следа человека не найти.
– Раз на раз не приходится, – усмехнулся хорунжий.
– Шалят? – оживился Николай Эрнестович.
– Бывает, – лениво согласился Матвей Иванович.
А вокруг лежала степь без конца и без края, то плоская, как стол, то покрытая неровными складками курганов и балок. И тянулись по ней под палящим солнцем почти три десятка людей с одной повозкой и вьючными лошадьми. Мерный стук копыт, монотонное покачивание в седлах, надоедливый скрип колес: Епифанов и Рогожин уже несколько раз смазывали втулки дегтем, но колеса упрямо скрипели, будто задались целью вымотать людям нервы, и без того взвинченные нескончаемой жарой.
И еще сильно досаждала пыль – казалось, она была везде: оседала на одежде, оружии, шкуре коней, ложилась на щеки и волосы, скрипела мельчайшими песчинками на зубах, забивалась в ноздри. Всадники, лошади и даже повозка вскоре стали похожи на серых призраков, неведомо откуда появившихся в степи и тенями скользивших неведомо куда. Федор Андреевич понял, почему казаки укрывались похожими на бурки хламидами из верблюжьей шерсти и возили ружья в чехлах. Его собственная одежда, такая привычная и сидевшая как влитая, казалась ему теперь тяжелой, душной и страшно неудобной. Он позавидовал станичникам, вольно чувствовавшим себя в чекменях и шароварах.