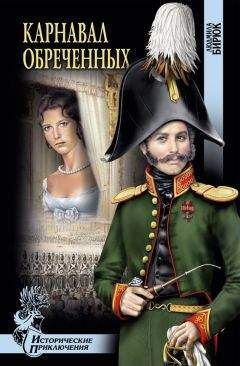Ознакомительная версия.
Подслеповатая старуха во весь рост растянулась на земле под издевательский хохот великого князя, сидевшего на дереве в предвкушении возмездия. Поднявшись и оправив платье, Нарышкина поднесла к глазам болтавшийся на золотой цепочке лорнет и, подождав, когда у Николая иссякнет приступ смеха, сказала спокойно, с какой-то кроткой грустью:
— Придет время, и вместо котят вы будете вешать людей, ваше высочество.
Старуха величественно удалилась. Хмурый и разочарованный, Николай слез с дерева. Месть не удалась. Фрейлина почти не пострадала, даже не испугалась, не заохала. Он с нетерпением ждал ее нового доноса, но его не последовало.
Взрослея, Никс остепенился, образумился и потерял интерес к мелким пакостям. У него появилась новая страсть, снисходительно поддерживаемая старшими братьями — императором Александром и цесаревичем Константином.
Этой страстью стало военное дело.
Шагистика и всевозможные строевые упражнения приводили его в экстаз. Ничего для него не было важнее. Всё остальное было серым, будничным — дворцовые интриги, ранняя женитьба на худосочной немецкой принцессе Шарлотте, даже рождение сына Александра, которого царственная семья и придворные очень любили и называли ласково «le petit Sacha». Всё, кроме армии, казалось ему второстепенным, даже ненужным.
В мечтах он видел себя главнокомандующим. Но брат-император заставлял его довольствоваться скромным постом генерал-инспектора инженерных войск, в то время как под началом старшего брата Константина была польская армия и литовский корпус.
Николаю приходилось терпеть скрытое презрение отлично знающих свое дело боевых генералов. С ним не церемонились. Чего ради? Он не был цесаревичем. После Александра престол должен был занять второй сын Павла I, Константин, любимый старыми генералами и внешне очень похожий на покойного императора. Высказывания Николая на заседаниях Военной коллегии, в которых ему было положено принимать участие, кулуарно подвергались осмеянию. Он знал об этом, но ничего не мог поделать. Образования и военного опыта не хватало ему для того, чтобы достойно ответить насмешникам. Он мог лихо командовать строем, в совершенстве владел мастерством барабанного боя, но постичь стратегию высокого военного искусства было ему не под силу. Он завидовал Константину, участнику войны, которого уважали в высших кругах армии. Отношение военного командования к Николаю было весьма сдержанное, а солдаты его просто ненавидели, ибо свою злобу, вызванную неудачами в военной карьере, он срывал на них. Его жестокость переходила все границы. В ней он изливал всю горечь от несправедливости судьбы, поставившей его третьим в очереди на престол.
* * *
Бакланов уже начал тревожиться из-за упорного молчания великого князя. Не решаясь заговорить первым, он ерзал и покашливал, бросая на Николая Павловича робкие взгляды, но тот словно ничего не видел вокруг. Только когда они уже подъезжали к Царскому Селу, Николай вдруг соизволил обратиться к своему адъютанту.
— Что-то подсказывает мне, что не случайно судьба столкнула меня с ним.
Бакланов не понял, кого имел в виду великий князь, Репнина или Печерского, но ответил не задумываясь:
— Ваше высочество! Будьте покойны за свою судьбу: она в ваших руках!
Николай невольно посмотрел на руки. На правой не было перчатки.
* * *
Возле Синего моста, на набережной Мойки, в доме номер 72, размещалась Российско-американская торговая компания, где в должности управляющего канцелярией служил отставной подпоручик Кондратий Рылеев. Это был известный поэт и правдолюбец. Свои произведения он печатал в журнале «Полярная звезда», который сам же издавал вместе с другом, штабс-капитаном лейб-гвардии драгунского полка Александром Бестужевым-Марлинским, автором исторических повестей.
Рылеев жил с семьей в том же доме, этажом выше, в небольшой квартирке, вечно набитой гостями по вечерам. Что тянуло туда блестящих петербургских офицеров — ветеранов войны 12-го года и совсем молодых, безусых прапорщиков, только начинающих свою военную карьеру? В квартире Рылеева не подавались на стол изысканные яства, не лилось рекой шампанское, не звучали модные тенора и сопрано, даже цыган ни разу не было слышно. Ели мало и только простую пищу — ржаной хлеб, картошку да квашеную капусту. Пили еще меньше, в основном — чай или квас. Зато много говорили, и не только о поэзии…
* * *
— Да поймите же, Кондратий Федорович! — досадливо обронил полковник с аскетически худощавым лицом, стараясь сдерживать невольно вскипавшее в нем раздражение. — Поймите, что вы собираетесь воплотить свои идеи путем пролития крови своих соотечественников!
Кондратий Рылеев, хрупкий молодой человек с нежным лицом, обычно уступчивый и мягкий в общении с друзьями, становился неколебим, когда дело касалось его убеждений. Но сейчас он, казалось, отчаялся переубедить своего собеседника и только с досадой махнул рукой.
— Я мог бы поспорить с вами, князь, но это бесполезно. Кроме того, моя позиция вам и так ясна.
— Вот именно — ваша!
— Это наша общая позиция, — запальчиво возразил усатый офицер с черной повязкой на лбу. — И кто бы что ни говорил, Кондратий прав! Прав в самом главном! Ну а если надо умереть… Что ж, мы готовы и на это!
Выйдя на середину комнаты, он поднял руку и прочитал с воодушевлением:
Повсюду вопли, стоны, крики,
Везде огонь иль дым густой…
— Браво, браво! — закричали все.
Только полковник с лицом аскета, видимо старший в этой компании по возрасту и по званию, не разделял всеобщего восторга:
— Я тоже люблю стихи Рылеева. Однако считаю, что «дело», исполнение которого требует пролития крови, не «прочно», а безнравственно.
— Нет, господин Трубецкой! — воскликнул Бестужев-Марлинский. — Тысячу раз нет. Нравственно всё то, что служит революции. А безнравственно то, что ей мешает. Таково мнение лучших людей России, друзей свободы!
— Они сами себя так назвали?
— Вам угодно иронизировать? Попомните мои слова… Наши идеалы станут достоянием нации. Ради них мы готовы пожертвовать жизнью! К нам присоединятся сотни офицеров, вся армия перейдет на нашу сторону!
— В таком случае революция — коллективное преступление. Да это и не революция, а террор! И вы хотите пропагандировать среди солдат весь этот ужас?
— Ужас… — повторил Рылеев, и его нежное лицо вдруг стало печальным. — Может быть, вы правы. Но еще хуже — массовая покорность перед насилием. Неужели, князь, вам не по душе идеалы свободы?
Ознакомительная версия.