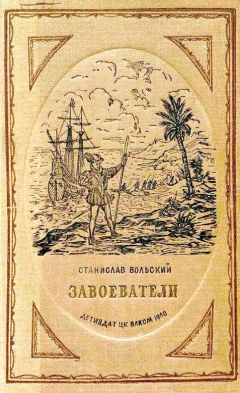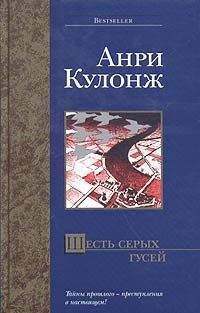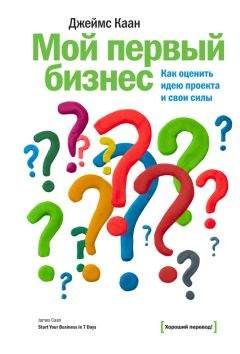— Да ведь индульгенция-то с печатями, понимаешь — с печатями! — возражал другой. — Наш-то падре, может быть, и наврет, скажет: «Отпускаю грехи», а на самом деле не отпустит. А тут с печатями — значит, без обмана.
Через толпу протискалась толстая купчиха в праздничном шелковом платье и кружевной косынке. Подойдя к отцу Бартоломео, она смиренно склонила голову и спросила:
— Скажите, отец Бартоломео, индульгенция все грехи отпускает?
— Все, дочь моя, — внушительно отвечал отец Бартоломео.
— И торговые?
— И торговые.
— И родительские?
— И родительские.
— И сыновние?
— И сыновние.
— Так уж дайте мне одну штуку. Только вы туда все семейство впишите: и мужа Хозе, и дочь Мерседес, и сына Хуана.
— За все семейство одного дуката мало. Неужели ты думаешь, дочь моя, что святой Петр за один дукат всю эту ораву впускать будет? Что он тебе — лакей, что ли? Давай два, меньше не возьму…
Купчиха подумала и протянула два дуката. Но монах медлил. Он долго рассматривал ее с ног до головы, что-то соображая, и наконец, отодвинув деньги, решительно сказал:
— Нет, не могу. С тебя три дуката взять — и то мало.
— Что же, я человека убила? Или дьяволу душу продала? — обиженно залепетала купчиха.
— Чревоугодие у тебя великое, вот что, — внушительно объяснил монах. — Уж очень ты много ешь, а с каждым куском в тебя по дьяволу лезет. Ты подумай, сколько их в тебя налезло за сорок-то лет! А перед райскими дверями ангелы должны их всех из тебя выгнать. Неужели ты думаешь, что за два дуката ангелы станут с ними возиться?
— А в тебя сколько дьяволов налезло, отец Бартоломео? Ты тоже не худенький, наверное не меньше меня, потянешь, — возмутилась купчиха.
— Я вкушаю во славу божию, а ты во славу брюха, — отрезал отец Бартоломео. — Ну, за три дуката согласна, что ли?
— Разорил, совсем разорил! — причитала купчиха, протягивая три дуката.
Отец Бартоломео начал было вписывать в индульгенцию имена, но потом остановился и спросил:
— А тебе что отпустить — только грехи прошлые или также и будущие?
— И будущие, обязательно и будущие, — заторопилась купчиха. — А то что же, три дуката заплатила, а потом всю жизнь и оглядывайся, как бы не нагрешить? — Впрочем, отец Бартоломео, будущие грехи отпустите только мне и мужу. А детям не надо, а то, пожалуй, чего доброго, ограбят или убьют. Времена-то, сами знаете, какие!
— За будущие грехи еще один дукат, — сказал отец Бартоломео.
— Пропала я, совсем пропала! — взвизгнула купчиха. — Ну, уж бери, отнимай последнее!
Отец Бартоломео взял четвертый дукат и уже протянул было индульгенцию, как вдруг что-то вспомнил и отдернул руку.
— Тебе с какой печатью — большой или малой? — спросил он строго.
Купчиха смотрела на него, ничего не понимая.
— С малой печатью пускают только за райскую ограду, а с большой — в райский сад. За большую печать еще три реала, — объяснил отец Бартоломео.
Купчиха уже не могла больше ничего говорить, а, только обливалась потом и тяжко вздыхала. Наконец, подумав с минуту, вынула из кармана три реала и подала монаху. Отец Бартоломео прицепил к индульгенции большую восковую печать и отдал грамоту заказчице.
Положив индульгенцию за пазуху, купчиха отступила на два шага и закричала на весь базар:
— Грабитель, мошенник, христопродавец! Чтоб у тебя руки отсохли, чтоб ноги у тебя отняло, чтоб печенка у тебя сгнила, чтоб тебя повесили башкой вниз, окаянный! И ничего ты мне теперь не сделаешь! Грехи-то у меня все отпущены — и прошлые и будущие. Вот проткну тебе вилами брюхо, и ничего мне на том свете не будет!
Неизвестно, сколько времени ругалась бы купчиха и сколько времени отругивался бы отец Бартоломео, если бы на площади не началась вдруг суматоха. Между рядами телег скакал на муле какой-то крестьянин. Он нещадно колотил животное пятками и кричал:
— Едут! Едут!
— Кто едет-то? Кто едет? — спрашивали испуганные голоса.
— Граф, граф! — кричал крестьянин. — Дорогу, дорогу!
Разъяснений не требовалось. При одном слове «граф» всякий сразу понял, в чем дело. Граф Рибас жил недалеко от Трухильо. Получив в наследство замок и дюжины четыре крепостных, граф решил приумножить свое состояние: нанял с полсотни молодцов, вооружил их и разъезжал по округе, дочиста обирая всех, у кого было что отобрать. Иногда он уезжал за десятки миль и нападал на купеческие караваны, а если удавалось застать врасплох какой-нибудь маленький городишко, граф со своим отрядом врывался в него и грабил лавки и дома зажиточных людей.
— Запирайте ворота, запирайте ворота! — раздавались отовсюду крики.
Альгвасилы бросились к воротам. Торговцы поспешно уносили товары из ларьков. Бочку, на которой стоял тощий монашек, в суматохе опрокинули и вышибли из нее дно.
Отец Бартоломео остался на месте, растерянно переглядываясь со своим товарищем и крепко зажав в руке пачку индульгенций и кожаный кошель с деньгами. Скрыться было некуда: церковь, трактир, городская ратуша — все было забито народом. А чтоб дойти до дома какого-нибудь знатного сеньора, пришлось бы продираться сквозь толпу нищих и карманников. После этого у отца Бартоломео, наверное, не осталось бы ни одного реала и ни одной индульгенции.
Тощий монашек глазами показал на бочку:
— Полезайте, отец Бартоломео! Вы вперед, а я за вами.
Отец Бартоломео не заставил себя просить. Он сунул подмышку пачку с индульгенциями, зажал в зубах кошель с деньгами и, встав на четвереньки, пополз. Но он сейчас же застрял: бочка не вмещала его тучного тела.
— Скорее, дон Бартоломео, скорее! — торопил монашек.
Отец Бартоломео отдувался, пыхтел, скреб ногтями по дубовым дощечкам, но вперед не двигался. Тощий монашек не растерялся: упершись ногами в камень, он стал толкать грузную тушу доминиканца. Наконец дон Бартоломео стукнулся головой о верхнее дно бочки и изо всех сил закрякал, давая понять, что дальше двигаться некуда. Вслед за ним влез в бочку и тощий монашек, втянул ноги и прикрыл отверстие валявшимся тут же днищем.
А в это время на площади спешно готовились к обороне. Из городской ратуши кое-как протискался на крыльцо алькальд[6] путаясь в длинной мантии, он кричал:
— Бегите за доном Гонзало Пизарро! Собирайте кабальеро! Бейте в набат! Булочники, медники, оружейники, торговцы — все к оружию!
Забили в набат. Лавки запирались. Купцы и ремесленники бежали за пиками, алебардами, латами и пищалями.
В квартале, где жили кабальеро, началась суета. Из домов выносили старое оружие, жены и домочадцы надевали на кабальеро шлемы, латы, стальные набедренники и нарукавники, прислуга оттирала песком заржавленные мечи, дети собирали груды камней, чтобы с городской стены осыпать ими осаждающих.