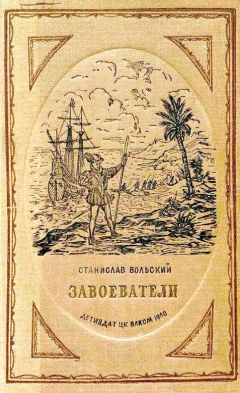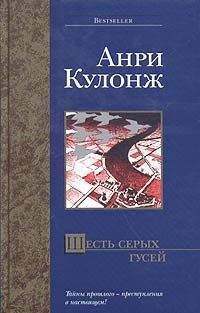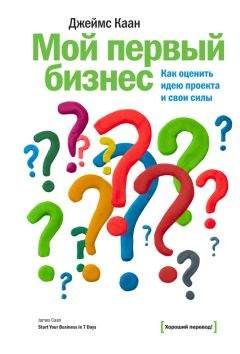— Пизарро и святой Георгий! — раздались крики воинов на городской стене.
— Пизарро и святой Георгий! — донеслось из города.
Над воротами взвились два знамени: знамя города Трухильо и знамя с гербом Пизарро, изображавшим единорога на красном поле.
Трубач удалился. Окружавшую графа Рибаса кучку охватило смятение. Ни Рибас, ни его наемники не ожидали встретить здесь такого грозного противника: они думали, что Пизарро еще не вернулся из похода, и его появление на городской стене было для них полной неожиданностью. Рибас хотел было ободрить свою дружину, но напрасно: разбойники, привыкшие иметь дело с безоружными путешественниками и неопытными в; военном деле горожанами, не решались помериться силами с знаменитым воякой. Возчики повернули подводы и настегивали лошадей. Всадники вскочили на коней и, не дожидаясь команды, поскакали обратно. Волей-неволей граф Рибас последовал за ними.
По приказу Пизарро, на прилегающие к городу дороги выслали несколько всадников, чтобы следить за отрядом Рибаса. Ворота растворили. Купцы и ремесленники сняли военные доспехи, и только десятка два кабальеро продолжали дежурить около ворот. Через час город опять принял свой прежний праздничный вид. Кричали продавцы и покупатели, альгвасилы ловили карманников, нищие тянули гнусавыми голосами: «Подайте милостыню; ради праздника господня!» Только отцу Бартоломео и его спутнику не удалось сразу вкусить плоды мира.
Пизарро не забыл о пленниках — он вообще не забывал ни о чем, из чего можно извлечь пользу. Окруженный шумной, ликующей толпой, он направился в ратушу и сейчас же приступил, к допросу.
— Ну, на сколько наторговал, святой отец? — обратился он к отцу Бартоломео, сидевшему на скамейке со связанными руками.
Бартоломео хмуро молчал.
— Давайте сюда его кошель! — приказал Пизарро и стал считать содержимое. — Пятнадцать дукатов и десять реалов! Ну что ж, святому Петру придется поделиться со святым Яго. Ведь не будь святого Яго и раба его, грешного Гонзало Пизарро, этих денежек его святейшеству папе не видать бы, как своих ушей. Одну треть оставим святому Петру, одну треть передадим святому Яго и одну треть испанскому воинству, нашим храбрым кабальеро. Но у святого Яго нет своей казны. Поэтому часть его перейдет мне, а священник нашей церкви отслужит святому Яго двенадцать благодарственных молебнов. Правильно я решил, сеньор алькальд?
Алькальд важно кивнул головой. Обтрепанные кабальеро, окружавшие Пизарро, закричали: «Слава дону Гонзало!» Отца Бартоломео и его спутника стали развязывать. Но, когда доминиканец, расправляя отекшие члены, направился к выходу, на плечо его легла тяжелая рука Пизарро.
— Не торопись, святой отец, — заговорил Пизарро. — Такие храбрые воины, как мы, заслужили заступничество святого Петра. Давай-ка индульгенций мне и вот этим кабальеро. И смотри, чтобы нам были отпущены все грехи — и извинительные, и смертные, и прошлые, и будущие!
Отец Бартоломео хотел что-то возразить, но, взглянув на Пизарро, понял, что сопротивление бесполезно. Он молча достал походную чернильницу и гусиное перо и стал вписывать в грамоты имена. Когда его наконец отпустили, он перекрестился, вышел на улицу и, сняв с ног сандалии, поднял их над ступенями крыльца и стал трясти.
— Отрясаю прах от ног своих! — проговорил он грозно, но так, чтобы не услышали кабальеро. — Да пребудет на городе сем проклятие святого Петра!
Стоявшая у крыльца толпа в испуге попятилась. Старушки охнули, мужчины стали читать молитвы. Отец Бартоломео и тощий монашек медленно вышли из города.
Через день после описанных событий над городом Трухильо занималось тихое и ясное утро. От тревог троицына дня не осталось и следа. Граф Рибас со своими молодцами уехал куда-то далеко. Нищие и карманники перекочевали в другой городок, где через два дня по случаю приходского праздника должна была состояться ярмарка. Кабальеро, прокутив все, что можно, отсыпались. Отсылались и купцы и ремесленники, у которых с похмелья болели головы, а руки никак не тянулись к работе. Даже петухи, кричавшие наперебой во всех концах города, не могли стряхнуть с людей непробудный сон.
Так же сладко, как и другие, спал дон Антонио, священник церкви св. Георгия. Он видел во сне, что его соседка принесла с базара необыкновенно жирного, петуха и стала жарить его на сковородке. Птица была соблазнительная и словно сама просилась в рот. Дон Антонио, почавкав губами, уже готовился было отведать кусочек, как вдруг и птица, и соседка, и сковородка куда-то провалились, и в ушах раздался пронзительный голос:
— Вставайте, дон Антонио! Беда стряслась, беда!
У кровати дона Антонио стоял церковный сторож и изо всех сил тряс своего начальника за плечи.
— Что такое, что такое? — вскрикнул спросонья дон Антонио. — Опять граф Рибас? Бей в набат, беги за Пизарро!
— Да нет, не то совсем! На паперти храма младенец лежит.
— Какой младенец? Зачем младенец?
— Ну, кто-то подкинул святому Георгию младенца. Куда мы его теперь денем?
Дон Антонио окончательно проснулся. Это было действительно большое событие, каких давно не случалось в Трухильо.
— Так и знал, — проговорил дон Антонио. — Проклял нас доминиканец, вот теперь и повалились несчастья!
Наскоро одевшись, дон Антонио поспешил к церкви и действительно увидел на паперти маленькое завернутое в простыню тельце. Ребенок был крепкий, здоровый и громко кричал. Дон Антонио взял его на руки и стал думать, что делать с ним дальше. Ничего не придуман, он наморщил лоб и обратился за советом к сторожу.
— Вот, Педро, какие дела бывают на свете, — жало! — но заговорил он. — Куда же нам его девать?
— Окрестить его надо, дон Антонио, а то, пожалуй, умрет некрещеный, — посоветовал сторож. — Я буду крестным отцом, а крестную мать я сейчас найду.
Минуты через три Педро вернулся с пожилой женщиной, лет сорока пяти. Тетка Кармен бережно взяла ребенка из рук отца Антонио, внесла его в церковь, приподняла над купелью, священник попрыскал на новорожденного водой, посыпал его солью, произнес полагающиеся молитвы, дал ребенку имя Франсиско, и крещение было кончено.
Тут-то и началось самое трудное.
Тетка Кармен передала младенца дону Антонио и направилась к двери. Дон Антонио крепко прижал к груди маленькое тельце и не решался двинуться с места, боясь уронить свою ношу. Бритые губы его кривились и дрожали, как будто он собирался заплакать.
— Куда же ты, Кармен? — крикнул он вслед уходившей женщине. — А я-то как же? Куда я с ним пойду?
— Известно куда, домой пойдете, — отвечала Кармен. — А мне некогда тут с вами возиться, у меня у самой дома десятимесячный ребенок кричит.