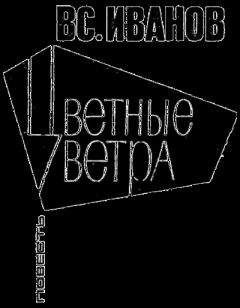— Я те семенникам покажу!
Гнется телега под тремя — седые головы как снопы пакли. Азямы словно дырявые мешки, и будто не тело в прорехах видно, а седую паклю.
— Семенники!… Смотри.
Пахнут семейники-старцы древними, тугими запахами, и голоса тиховейные — лен шелестит,
— Ты, что ли, Калистрат Ефимыч?
— Я, старик.
Видят плохо — выкатил один белый седой зрачок, — взглянул, и утонул опять зрачок.
— Ты блюди!… Мы тут в восстанью приехали, посмотреть, как и что!… Ты за домашностью блюди! Чтоб не измотался народ…
Вздохнули все единым вздохом, легким, так бы и младенцу не вздохнуть.
— Люд на соблазну скор. Ты им старую веру за новую выдаешь, бают? Так им и надо, коли старова не хочут.
И древние годы не выдерживая, отошла телега, к земле пригибаясь. Древность звала земля.
Завертелась в хохоте рыжая борода, хохот присвистывающий в волосяной сети заплутался.
— Вот она, сила-то!… Понял! Тут мы ее берегем. Без старика нельзя, старик только один может дело направить.
И повел Калистрата Ефимыча промеж телег, Пахла земля дегтем, телеги — мхами осенними, как паутина тонкими. Смотрят черные колеса как зрачки — неподвижно, по-звериному,
Калистрат Ефимыч сказал:
— Куда ведешь-то?
— Пойдем… Покажу ешшо. Смотри, как мужик идет.
— Не надо… ничего.
Оттолкнулась борода. Нога за телегу зацепила.
— Не хошь? Трусишь?
Калистрат Ефимыч хотел крикнуть, но смолчал. Вернулся к своей телеге молча.
А у телеги рыжебородый уже с Никитиным беседует.
— Проведем, — говорит рыжебородый, — мы здеся железную дорогу со всеми припасами.
Никитин отвечает:
— Проведем.
— Обязательно. Однако в бухфете водки чтоб в три тысячи градусов.
Никитин сказал:
— Мы с тобой, Калистрат Ефимыч, в…телеге будем.
— Где это?
Метнулся рыжебородый вдоль телеги, ось ощупал, оглобли. Сказал досадливо:
— Опять же на байге! Потому штаб постановил — начальство и важных людей на люд не выводить. Атамановцы заарестуют, очень просто.
— А в телеге нет?
— В телеге мы тебе кошемный навес с дыркой вроде отверстия сделаем. Сиди и смотри. И чтоб ведро самогонки, потому душна… Пей.
Так и поехал Калистрат Ефимыч с Никитиным на байгу.
Каменная тропа звонкая. На душе тропа тяжелее — не взберешься, не оглянешься. Молчи и подымайся, а не то пропасть. Гибель.
Висел культяпый Павел на шее лошади, как толстый репей. И волосы на голове как пушинки. Голосок легкий — не держится на душе, уносит ветром.
— Плюнь, Листрат Ефимыч, уйди ты от них. Я те, батя, понимаю. Однако очень просто не одолеешь,
Натянул повод, на руках в седле приподнялся, попону поправил.
— Люд — сволочь! Чо те с ним валандаться! Достану я тебе лошадь, приходи завтра ко мне. Уедешь… прямо, паре, к баям в аул доставлю. Живи! И бабу!…
— Не хочу.
Шевельнул тот, как языком, поводом, вдавалась лошадь в желто-розовые кусты. И легонько отозвались кусты:
— Зря, Ефимыч…
А потом, когда вечер поравнялся с телегой, подъехал Павел и, почесывая между ушей лошадь, спросил:
— Дождусь я, Микитин, ал и не дождусь, штоб мог я те в харю ногой залепить?… Как ты мне раз залепил, а?
— Когда ноги вырастут.
Над телегой Павловы длинные отрепанные руки тянули.
— Ране-е, Микитин, ране-е!… Дождусь.
Тащит телега синюю тяжелую темноту в легкую лунную пену. А за дорогой такие же синие глыбы тьмы шелестят, а над глыбами дальше — еще глыбы.
Пахнет дорога не камнями — золой, а ветер коричнево-серый — корой осиновой.
Молчит Калистрат Ефимыч.
На передке, как пень, мужичонко, от него к черной копне, похожей на лошадиную голову, две ленточки. Фыркает копна.
Никитин с другого конца телеги сказал:
— Нужно от выступления удержать. Поехал ты зачем?
— Смотреть хочу, парень. Байга эта из года а год. Ране-то я тоже боролся было…
— А теперь на печку?
— Лисья заимка-то печь, В печь калёну лезу, а не на печь.
Откинул Калистрат Ефимыч одеяло. Отыскав среди сена коленки Никитина, дотронулся:
— Ты, Микитин, баловать-то брось.
— Ну?
— Думать — малой я, ребенок, дитё? Дай ты мне раз по сердцу тебе сказать?
— Говори.
Шевельнулось сено, широко, как одеяло, вздохнуло. Голос — запахи земные, густой.
— Не давай ты мужикам кыргызов бить. Пушшай посмотрют и разъедутся. Не надо кровопролитья-то, парень. Мало крови тебе, ну?
И Калистрат Ефимыч продолжал:
— Па-арень! Сам знашь — выжгут! Скотов угонют, людей перебьют.
— Потому и еду — не допустить.
Стоном пошла телега. Оглянулся пень с передка, сморкнулся и опять к ленточкам прильнул.
— Допустишь ты, Микитин, допустишь.
— Нет.
— Убил ты мово сына… Прощу! Хочешь ты всю округу в восстанью втянуть… вижу!
Резко, как роняя железо, сказал Никитин:
— Стой!…
Протянул пенек:
— Тпру-у!…
Повернул Никитин Калистрата Ефимыча за плечи, в обрат, сказал:
— Видишь?
Косогором в блекло-малахитовых порослях по откосам в котловину, дребезжа, катились, как камни, глыбы телег. Охая, отдавали горы лохматые мужицкие песни. Ревели кусты:
Э-эй, ты…
Лисы-ынька…
Белая-я
Горносталь…
Туго звенела земля. Из котловины солоновато несло солонцами. Вдалеке мерцали бледно-оранжевые костры киргизов.
Никитин спустил руки и лег в сено,
— Молись, чтоб возвратились.
— Я?
Закрылся Никитин с головой, не ответил.
Коричнево-серый пенек на передке, спустив вожжи, дремал. Проваливалось в дорогу лиловатое пятно телеги.
Схватив задок волосато-горячими пальцами, глядел назад Калистрат Ефимыч. Видел.
Таежными гулами пели телеги. Голоса раскатистые, как рев зверей. Звериные, сторожкие запахи шли с трав, с гор…
Пахло в горнице бараньим салом. На кошмах, поджав ноги, сидели толстые, низкие, как юрты, баи. Баланки-мальчишки в зеленых ичигах-сапогах разносили баранину на деревянных подносах.
Миронову сидеть на корточках было трудно, он притащил из кухни полено.
Плосколицый, как степное озеро, бай, распуская чембары, говорил:
— Плакой чаман печать пошел!… Раньше бумаги — полена толстый; пичать — тарелка. Чаман! Ка-рашо!
И, пропуская бумагу в сальных пальцах, обронил ее на кошму.
— Моган — нам большой приказ надо. Кабинетская земля — бери кыргыз, новосел — пшёл… В Ра-сею! Такой приказ надо, бай!…
Белое вареное сало шмыгало по пальцам в рот. Глаз был как кусок сала — пьяный, сытый, Семен раскупорил пиво.
— Сколько дадите джигитов? — спросил Миронов. — Наши Пермь взяли, к Вятке подходят!…