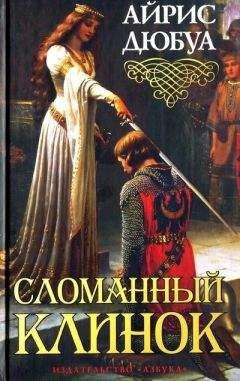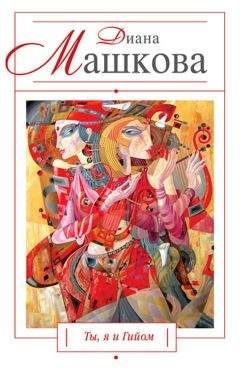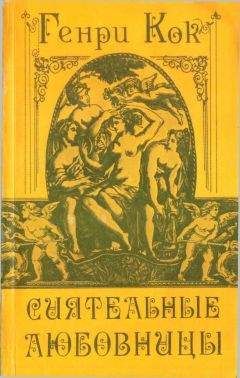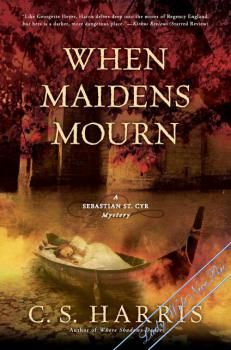— Я не сделал ничего, что расходилось бы с законами куртуазности! — засмеялся Франческо. — Просто нашей дикарочке они в новинку. Да, она прелюбопытное создание… А теперь, Джулио, перескажи-ка вкратце разговор с легистом.
Он снова наполнил свой кубок и молча потягивал вино, пока Джулио рассказывал. Когда тот закончил, Франческо помолчал еще с минуту.
— Старик переоценивает Наваррца, — сказал он наконец. — Карл слишком авантюрист, чтобы стать королем. Но денег я ему дам…
Вернувшись к себе, Аэлис долго не могла успокоиться, возмущенная наглостью «этого менялы». Жаклин заикнулась было, что «мессир Франсуа ничего такого себе не позволили и даже королеве тут не на что обижаться»; она окончательно рассвирепела, и тут уж камеристке досталось за все. И за глазки, которые она бесстыдно строит всем и каждому, и за непристойно глубокие вырезы платьев, и за сегодняшнее непотребное поведение с мессиром Жюлем. «Постыдилась бы, — кричала Аэлис, — распутница, ты там хихикала, как шлюха, которой лезут под юбку! Тебя надо отстегать крапивой, а потом посадить на недельку в масамор,[41] чтобы любезничала с пауками и жабами!» Жаклин про себя только посмеивалась над угрозами, но, решив, что так госпожа, пожалуй, не скоро утихомирится, как бы невзначай спросила: «А куда это пропал сир Робер? Что-то за ужином я его не видела». Аэлис сразу замолчала и с тревогой посмотрела на камеристку. «А ведь правда… Куда он девался? Ну-ка, позови его!» Жаклин убежала, едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть со смеху. Чтоб ей в жизни больше не целоваться, если госпожа не забудет все свои строгости, едва Робер сюда войдет! А кто больше заслуживает крапивы, так это еще как сказать.
Оставшись одна, Аэлис прошлась по комнате, чувствуя, как в душе нарастает странная тревога — почти страх. Почему бы это? Неужели из-за наглости этого буржуа? Глупо! Ведь не ее же он поцеловал, в самом-то деле! И куда девался этот несносный Робер? Хорош влюбленный, разрази его злой гром!
За дверью послышались шаги, Аэлис нетерпеливо обернулась. Робер вошел и молча остановился в дверях.
— Как это понимать, мессир?! — набросилась на него Аэлис. — Вы что, пришли сюда показывать свое дурное настроение?
— А я не приходил, — холодно ответил Робер. — Вы, госпожа, сами меня позвали.
Аэлис шагнула к нему, сжав кулаки от негодования, но взгляды их встретились, и она испугалась.
— Робер, что с тобой? — спросила уже другим тоном. — Почему ты на меня так смотришь?
— А как на тебя смотреть? — крикнул Робер. — Может, я должен радоваться, что ты целый день позволяла этому проклятому павлину вертеться рядом с собой?
— Что?! Я позволяла ему вертеться рядом?!
— Не прикидывайся! Я не слепой и все видел!
— Да что ты мог видеть?! — крикнула Аэлис уже сквозь слезы. — Как тебе не стыдно, Робер! Ты же знаешь, что отец приказал мне быть любезной с менялой!
— Не ссылайся на отца — ты сама с ним заигрывала! Позволяла себя обнимать! На тебя стыдно было смотреть, когда он снимал тебя с седла, — ты готова была раздеться перед ним! Прямо у всех на глазах!!
— О-о-о! — Аэлис всхлипнула и, отступив к постели, схватилась рукой за полог. — Да как ты смеешь! У тебя… у тебя совести нет, нет сердца… И ты совсем не любишь меня, если мог такое сказать!! — Она отвернулась и, бросившись ничком на постель, громко зарыдала.
Робер растерялся, этого он не ожидал. Может, она действительно не могла отделаться от распутного негодяя? В самом деле, она еще раньше говорила, что сир Гийом приказал ей принимать гостя полюбезнее… И верно, не могла же она ослушаться отца… Не выдержав, Робер подошел к девушке и с раскаянием тронул ее за плечо:
— Аэлис… успокойся! Ну, может, я и правда… погорячился!
Аэлис дернула плечом и заревела еще громче. Он присел рядом, погладил ее по спине и осторожно поцеловал в затылок. И зачем только наговорил ей такого! Почувствовав, что Робер уже и сам раскаивается, Аэлис сразу успокоилась и, повернувшись на спину, стала отталкивать его руки:
— Нет-нет, убирайтесь, не трогайте меня! Если я такая развратная…
Она не договорила — он рванулся к ней, стал горячо целовать ее губы, лицо, шею:
— Аэлис… любовь моя…
Аэлис, то ли отталкивая его, то ли притягивая к себе, шепнула:
— Робер, не оставляй меня! Никогда не оставляй, ни на один день, слышишь?..
Она снова оттолкнула его и, сняв с себя тяжелую серебряную цепь, к изумлению Робера, неожиданно легко отцепила от нее медальон и вложила в его руку.
— Он твой, друг Робер! Носи его в знак моей любви и твоей верности. Он защитит тебя и принесет удачу! И что бы ни случилось, обещай, что никогда не снимешь его…
В деревню он сумел отлучиться лишь на третье воскресенье после своего переселения в замок. С самого утра уйти не удалось — задержал Симон, заставил присутствовать при разбирательстве дурацкого дела: один стражник проиграл другому поножи, а у того их не оказалось, и теперь он клялся и божился, что никаких поножей в глаза не видел и вообще костей в руки не брал. Оба, хотя и ссылались на всех святых, врали совершенно очевидно, свидетели несли какую-то околесицу, и кончилось тем, что Симон потерял терпение и велел выпороть обоих игроков, пригрозив повторять это каждое воскресенье, покуда пропажа не найдется. Выходя из ворот, Робер услышал с хозяйственного двора вопли — явно притворные; стражникам полагалось наказывать друг друга, и они всегда делали это вполсилы — каждый рассчитывал на ответную любезность, когда дело дойдет до него самого…
У Мореля Робер застал гостя — он встречал этого человека и раньше, тот время от времени появлялся и исчезал; но единственное, что о нем было известно, — это что зовут его Шарль или Гийом Шарль, а родом он откуда-то с севера, о чем можно было догадаться по говору: имя свое он произносил как-то невнятно, вроде «Карль», «Каль». Был он уже не так молод, лет под тридцать, и, похоже, привык иметь дело с оружием, хотя не носил с собой ничего, кроме обычного ножа да еще крепкого посоха с окованным концом. Отец Морель, судя по всему, знал об этом Кале несколько больше, но держал сведения при себе.
Когда Робер вошел, кюре с гостем сидели за столом, доедая гороховую похлебку. От похлебки Робер отказался, а вина в кружку налил и, прислушиваясь к разговору старших, прихлебывал по глотку, отщипывая кусочки хлеба от положенной перед ним краюхи.
— …Я ведь не о себе говорю, — продолжал Каль, — я, мессир поп, человек вольный и умею за себя постоять, меня так просто не обидишь. А когда у тебя детишек полна горница, вот тут и впрямь беда. У нас в Мелло за эту зиму полдеревни вымерло от хворей и голодухи, а весной, только посевы взошли, их тут же и вытоптали… кто только по ним не прошелся! И соседние сеньоры счеты сводили с нашим, и солдаты короля, и солдаты Кноля, и солдаты Серкота… да вы-то все это сами знаете!