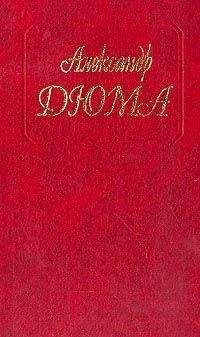— Ах, на этот раз, — проговорила графиня, — слава Богу, пробил мой час.
Видимо, притязания графини показались Флоранс вполне справедливыми: она молча прижала губы к губам графини и, одарив ее пылким поцелуем, покорно улеглась на спину, раскинув ноги.
На миг графиня застыла в немом восхищении перед странным телом, соединяющим и мужскую, и женскую привлекательность; взяв золотой гребень с бриллиантами, поддерживавший ее волосы за ужином, она соорудила из него диадему для этого милого божества, этой таинственной Исиды, которой, первой среди всех богинь, поклонялись, называя ее чудесным именем Урания.
Бриллианты и золото поблескивали, затерявшись в черном меху, где зубья гребешка увязли до самого основания, так и не достигнув отверстия, которое графиня так страстно хотела отыскать.
Тогда графиня встала на колени и, чтобы пышное украшение, которое она собиралась принести к алтарю, не мешало ей совершать благочестивый обряд в святилище, бережно положила бедра Флоранс себе на плечи, раздвинула густое руно, завешивавшее вход в пещерку, добралась до нижних губ, раскрыла их и будто очутилась у черного бархатного ларчика с розовой атласной подкладкой.
При виде таких нежданно раскрывшихся красот она с ликующим возгласом припала ртом к этому ларчику и стала покусывать и сосать клитор, тотчас напрягшийся от сладострастия; немного поласкав его языком, она пожелала вознаградить подругу ласками еще более проникновенными и сладострастными, чем те, которые были получены ею самой от меня; однако тут ее радостные крики сменил возглас удивления: проход, который она рассчитывала найти свободным, оказался закрыт. Она отпрянула от преграды, менее всего ею ожидаемой, приподняла Флоранс и жадно всматриваясь в ущелье, недоуменно спросила:
— Как это понимать?
— Все очень просто, дорогая Одетта, — улыбнулась Флоранс, — я девственница, или, если вы разборчивы в словах, скажу так: я осталась нетронутой.
— Неужели для тебя есть разница между девственницей и той, что осталась нетронутой?
— О, с моральной точки зрения, душа моя, она весьма существенна. Девственницей следует назвать юную особу, которой не касались ни чьи-либо уста, ни чей-либо палец, даже ее собственный; она целомудренна, и ей неведомо наслаждение. Остаться нетронутой означает познать и свою собственную ласку, и чужую — мужскую ли, женскую ли — и иметь выдержку сохранить в неприкосновенности девственную плеву.
— Ах, — радостно воскликнула графиня, — наконец-то я встретила женщину, не запятнавшую себя связью с мужчиной! О, даже не смею поверить в это, моя прекрасная Флоранс.
— Ручаюсь тебе в этом, — сказала Флоранс, — у меня, кстати, куда больше поводов для упреков — ты остановилась в самый неподходящий момент. Негодница, только я начала ощущать первые предвестия наслаждения!… Не отвлекайся, любимая Одетта, и, если что-нибудь обладает еще чудесным даром удивлять тебя, подожди говорить мне об этом до того, как закончишь.
— Позволишь сказать хоть слово?
Флоранс скользнула пальцем до своего клитора и стала нежно щекотать его, тем самым не давая температуре наслаждения упасть ниже нуля.
— Говори, — разрешила она.
— Итак, ты утверждаешь, что ты не девственна, но осталась нетронутой.
— Больше не утверждаю, поскольку ты, ленивица, вынуждаешь меня к действиям, из-за которых я рискую лишиться невинности.
— А мужчины, — продолжала графиня, чуть запинаясь, — имеют ли они какое-нибудь отношение к тому, что ты уже не девственна?
— Ни в коем случае; ни один мужчина не видел меня обнаженной, ни один не дотрагивался до того, до чего сейчас дотрагиваюсь я.
— Ах, — воскликнула Одетта, — именно это я и хотела узнать!
И она набросилась на Флоранс, отодвинув ее палец и горячо прильнув к пылающей вагине, которую природа сотворила средоточием наслаждения.
Флоранс вскрикнула; возможно, она ощутила несколько болезненный укус ласкающих ее зубов; однако их тотчас сменил язык Одетты, и этот опытный язык тотчас же убедился в том, что Флоранс не лгала и что если она и не девственна, то уж нетронутой осталась настолько, насколько это возможно.
Флоранс же быстро сделала два открытия, первое: куда слаще ощущать себя добычей ненасытного рта, всесторонне вооруженного, чтобы разнообразить наслаждение, — нежно посасывающие губы, жалящие зубы, щекочущий язык, — нежели испытывать возбуждение просто от атакующего тебя пальца, сколь бы ласков и проворен он ни был; и второе: какая пропасть отделяет россиянку Денизу от парижанки Одетты.
Острота наслаждения вылилась у нее в пронзительный крик, со стороны могло показаться, что она стонет от боли; когда же графиня от поцелуев снизу перешла к ее рту, Фло-ранс чуть было не потеряла сознание.
— Ах, теперь моя очередь, — произнесла она слабеющим голосом.
Соскользнув в изножье кровати, она приняла позу раненого гладиатора. Графиня заняла ее место на кровати и ужом скользнула к голове Флоранс, все еще поникшей под бременем наслаждения.
— Да не поднять мне никогда головы, — прошептала она, — если хоть один мужчина видел и слышал то, что сейчас слышала ты!
В этот миг рыжий пушок графини, приблизившись, коснулся волос Флоранс.
Прекрасная актриса вздрогнула, крылья ее носа напряглись, она подняла голову, открыла глаза, и рот ее очутился напротив огненного букета, который она так страстно возжелала с первого взгляда.
Теперь, когда первые страсти немного улеглись, расслабленная, но не утомленная Флоранс могла не торопясь отдаться сладострастию; она наградила благоухающие кустики нежным поцелуем и затем раздвинула их, чтобы взглядом, а не только прикосновением оценить сокровища любви, что уступила ей графиня.
У графини никогда не было детей, так что и губы ее, и влагалище сохранили безукоризненную свежесть и тот очаровательный бледно-розовый оттенок, который называют цветом «бедра нимфы». Флоранс раздвинула большие срамные губы, и тут ее внимание привлекла стоящая рядом корзинка с виноградом, персиками и бананами; взяв самый миниатюрный и самый яркий персик, она вставила его в малые срамные губы, наполовину прикрыв его большими губами.
— Что ты там творишь? — поинтересовалась Одетта.
— Позволь мне побыть садовницей и сделать тебе прививку. Ты не представляешь, как хорош персик в таком обрамлении; будь я живописцем, я изобразила бы этот плод, но не ради него самого, а ради оправы.
— Только бархатистая эта кожица, воспетая поэтами, сравнивавшими ее с женскими щечками, колется точно иголками.
— Обожди немного, — промолвила Флоранс. Серебряным ножом она очистила кожицу персика, которая — подобно тому сложенному вдвое лепестку розы, что всю ночь мешал уснуть изнеженному сибариту, — раздражала необычайно чувствительную слизистую оболочку графини, разрезала персик пополам, извлекла косточку и снова поместила в оправу.