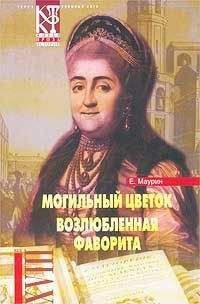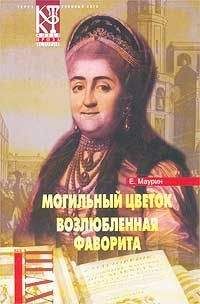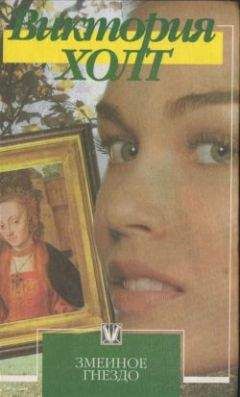— Да, это похоже на тебя, Бонапарт! — ответил Бертье, добродушно рассмеявшись. — Но только, по-моему, ты не совсем прав! Роялисты, которых ты расстрелял, были бунтовщиками против нынешнего правительства, а поляки — свободный, независимый народ!
— Бунтовщиками! — с горькой усмешкой повторил Бонапарт, пожимая плечами. — Нет, Бертье, они не были бунтовщиками, когда с оружием в руках двинулись на республику, они стали ими, когда побежали от моей картечи! Если бы роялисты оказались сильнее меня, если бы они обратили в бегство моих солдат, тогда они стали бы героями. Но они — побеждены. Теперь герои — мы, а роялисты — бунтовщики! Говорю и повторяю вам: все принципы равны, все идеи одинаково святы, а, значит, все это — личное дело каждого, не имеющее никакого общественного значения. Что вы мне будете говорить о каких-то там переворотах! Разве каждый, кто ниспровергает закон, — непременно преступник? Баррас с товарищами отменили конституцию девяносто третьего года, распустили конвент, учредили директорию и две законодательных палаты; ведь это — полный переворот, полное ниспровержение прежнего, законного строя. Но Баррас — во всеобщем почете, он чуть ли — не отец отечества, а Робеспьер, свято чтивший закон, умер на эшафоте, как злодей и преступник!
— Но он и был кровожадным злодеем! — воскликнул Жюно.
— Нет, — задумчиво ответил Лебеф, — у Робеспьера была детски-чистая, незлобивая душа, стремившаяся к добру и правде. Просто судьба привела его к такой деятельности, к которой он не был способен!
— Ты хорошо знал его? Ты был близок с Робеспьером? — быстро спросил Бонапарт, впиваясь в Лебефа взглядом.
— Я отошел от него в последнее время, но сначала мы были очень близки, — ответил Лебеф.
— Постойте, господа, — остановил их Мармон. — Вот мы и отклонились далеко в сторону! Вернемся к Суворову. Видишь ли, Бонапарт, у нас зашел спор относительно личности этого полководца, и Бертье уверяет, что Суворов — кровожадный зверь, а Жюно доказывает, что у Бертье нет оснований ставить такой приговор. Вот мы и хотели, чтобы наш спор разрешил гражданин Лебеф, который бывал в России и знавал Суворова.
— О, этот спор можно разрешить двумя вопросами! — ответил Бонапарт. — Скажи, гражданин, какую жизнь ведет Суворов?
— Это истинный спартанец! В пище и платье Суворов довольствуется только самым необходимым. Роскошь, излишества, ленивая нега неведомы ему.
— Да, таков и должен быть полководец! — задумчиво заметил Бонапарт. — Теперь скажи мне еще, как относятся к Суворову войско и знать?
— Войско обожает его, придворная знать — ненавидит.
— Вот вам полный ответ на ваш спор, друзья! — с торжеством воскликнул Бонапарт. — Если бы Суворов был негодяем и злодеем, знать обожала бы его, а войско ненавидело! Ты неправ, Бертье, ты побежден!
— До свиданья, граждане! — сказал Лебеф. — Теперь я удовлетворил ваше любопытство, и вы, конечно, позволите мне идти своей дорогой?
— Постой, гражданин, я пойду с тобой! — торопливо кинул Бонапарт, простился кивком головы с компанией и продолжал, снова обращаясь к Лебефу: — Ты зайдешь ко мне, я хочу порасспросить тебя!
Лебеф хотел ответить, что ему некогда, что его ждут, но в тоне молодого генерала слышались столько властной силы, такая твердая уверенность, что ему нет и не может быть отказа, что протест замер невысказанным, и Лебеф покорно пошел рядом с задумчивым Бонапартом.
Все было бедно, скудно и убого в той маленькой комнатке, где Лебеф, следуя молчаливому приглашению Бонапарта, присел на простом табурете. Скромная постель, большой стол, заваленный книгами, чертежами и картами, маленький шкафчик со скудным запасом белья и платья — вот и вся обстановка, если не считать еще пары стульев и рабочей табуретки.
Лебеф молча сидел, ожидая вопросов. Но Бонапарт словно забыл о госте и, заложив руки за спину, взволнованно ходил из угла в угол. Вдруг он сразу, резко остановился против Лебефа и спросил:
— Знаешь ли ты что-нибудь о тактике Суворова?
— Очень мало, — ответил Гаспар. — Ведь я — невежда в военном деле. В общих чертах могу заметить то, что тебе, вероятно, известно. В России армия набирается из крепостных, которые привыкли дрожать перед палкой помещика и в строю дрожат перед палкой командира. Это обеспечивает русской армии большую компактность состава. Русские солдаты пойдут куда угодно, полезут в огонь и воду, кинутся напролом; но если неприятелю удастся обратить их в бегство, то они побегут так же стадно, как стадно шли перед тем на врага. Суворову мало было этого, он задался целью повысить сознательность каждого отдельного солдата. И путем долгой работы ему удалось добиться того, что его солдаты не только компактны, как масса, но и сознательны, как боевая единица. При нападении и защите каждый солдат знает, что ему надо делать; он действует сообща и самостоятельно. Он страшен, как лавина, стихийно несущаяся вперед, все сокрушая на своем пути, и еще страшнее тем, что эта лавина снабжена думающим, рассчитывающим, взвешивающим мозгом!
— И ведь, исходя из этого, Суворов полагается главным образом на холодное оружие, а артиллерия у него на заднем плане? — спросил Бонапарт.
— Пожалуй, что и так, гражданин генерал, — ответил Гаспар. — Недаром Суворов постоянно твердит, что «пуля — дура, штык — молодец»! Он находит, что самый лучший стрелок, самый искусный канонир могут ошибиться, промахнуться, тогда как штыковой удар в руках надлежаще обученного солдата безошибочен.
— Вот-вот! — воскликнул Бонапарт, глаза которого засверкали радостью и волнением. — У каждого великого человека имеется свой слабый пунктик, и это то больное место Суворова, на котором я мог бы построить его разгром и свою славу! О, если бы судьба привела меня столкнуться в великом бою с этим гениальным стратегом! О, если бы хоть случай развязал мне руки, если бы я мог свободно взмахнуть крыльями, мощь которых я так отчетливо сознаю! Но я связан, задыхаюсь в тесной клетке бездеятельности! О, как ужасно вечно гореть, вечно пламенеть, чувствовать себя призванным к великим делам, сознавать свою силу осуществить великие замыслы и не иметь возможности, случая доказать свою мощь! Бездарный идиот Шерер губит все французское дело в Италии; я разработал ясный документальный план военных действий, представил его Карно с мотивированной докладной запиской, из которой видно, как дважды два — четыре, что этот план не может не привести к полному торжеству, понимаешь: не может! А эта старая лошадь отвечает мне, что я представил какой-то больной бред вместо плана. Но в том-то и мое несчастье, что меня судят те, кто неспособен быть моими судьями! Как смеет Карно брать на себя решение? Он — талантливый инженер да хороший администратор, пожалуй, но он — не стратег! А я — стратег! Дайте мне случай, дайте мне возможность, и я склоню весь мир под знамена свободной Франции! Я призван к этому, для этого я рожден. О, сознавать это и сидеть, медленно сгорая в пламени неутолимого честолюбия, не видеть исхода, упираться в глухую, инертную стену. Н-нет, я долго не выдержу! Я сгорю в этом костре!