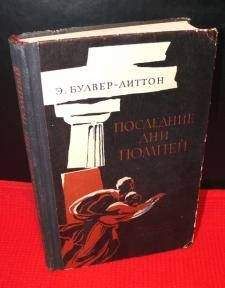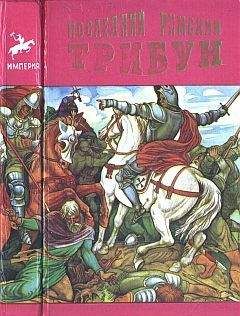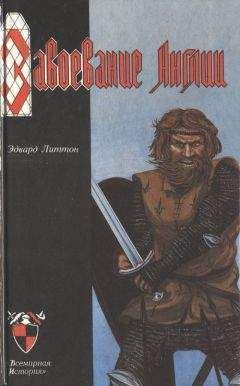Едва египтянин умолк, со всех сторон, сверху, снизу полилась нежнейшая музыка, рожденная в Лидии и достигшая совершенства в Ионии.[38] Поток звуков захлестнул все чувства; он обессиливал, покорял своей красотой. Казалось, то были напевы невидимых духов, которые мог бы услышать в золотой век пастух где-нибудь среди долин Фессалии или полуденных лужаек близ Пафоса. Слова, которые готовы были сорваться с губ Апекида, замерли. Ему казалось кощунством нарушить это очарование. Его впечатлительность, его греческая мягкость и тайный пыл его души взяли верх. Он откинулся на своем сиденье, жадно внимая, а хор пел нежную и сладостную песнь…
Помпейские трущобы и герои арены
А теперь направимся в один из тех кварталов, которые были населены не знатными ценителями удовольствий, а их орудиями и жертвами: здесь обитали гладиаторы и призовые бойцы, злодеи и бедняки, жестокие и бессовестные, это были трущобы древнего города.
На узкой, но людной улице стоял большой дом. У дверей его собрались люди, чьи железные мускулы, короткие и могучие, как у Геркулеса, шеи, суровые и смелые лица выдавали героев арены. Снаружи, на большой полке, стояли рядами сосуды с вином и маслом, а прямо над ней, на стене, было грубое изображение пьющего гладиатора — вот как давно существуют вывески. Внутри стояло несколько столиков, разделенных перегородками. За столиками сидели люди: одни пили, другие играли в кости или в более сложную игру, которую некоторые из ученых ошибочно принимают за шахматы. Было утро, и столь необычное для посещения таверны время свидетельствовало, что эти люди томятся от безделья. И все же, хотя дом был расположен среди трущоб, здесь не было и следов той грязи, которую мы нашли бы в современном городе. Веселый нрав помпейских граждан, которые не всегда слушались разума, но неизменно услаждали свои чувства, выразился в яркой росписи стен и в фантастической, но не лишенной изящества форме светильников, чаш и всякой хозяйственной утвари.
— Клянусь Поллуксом, — сказал один из гладиаторов, прислонившись к стене у двери, — вино, которым ты нас поишь, старик Силен, — с этими словами он хлопнул тучного человека по спине, — может разжижить всю кровь в жилах!
Человек, которого он так ласково приветствовал (засученные рукава, белый фартук, ключи и салфетка, небрежно заткнутая за пояс, показывали, что он хозяин таверны), уже достиг почтенных лет, но он был еще такой крепкий, что мог бы посрамить окружавших его силачей, хотя мускулы у него заплыли жиром, щеки обвисли, а растущее брюхо выдавалось вперед под могучей, широкой грудью.
— Не лезь ко мне, грубиян! — проворчал гигант, и голос его был похож на глухой рык рассерженного тигра. — Мое вино отлично сойдет для трупа, которыйскоро будет валяться в сполиарии.
— Каркай, каркай, старый ворон! — сказал гладиатор с презрительным смехом. — Ты еще удавишься со злости, когда увидишь, как я получу пальмовый венок; а когда я возьму приз в амфитеатре, в чем не может быть сомнений, то первым делом поклянусь Геркулесу никогда не брать в рот твое мерзкое пойло!
— Только послушайте его! Послушайте этого скромного Пиргополиника! Ясное дело, он служил под началом Бомбохида Клитоместоридисархида![39] — воскликнул хозяин. — Нигер, Спор, Тетраид, он хвастает, что отберет у вас приз. Клянусь богами, каждый из вас одной рукой может его придушить, или я ничего не смыслю в этом деле!
— Ладно! — сказал гладиатор, багровея от гнева. — Ланиста рассудил бы по-иному.
— Как может он рассудить против меня, наглый Лидон? — сказал Тетраид, нахмурившись.
— И против меня, который победил в пятнадцати поединках! — сказал гигант Нигер, подходя к гладиатору.
— И меня! — проворчал Спор, сверкнув глазами.
— Тьфу! — сказал Лидон, скрестив руки на груди и вызывающе глядя на своих соперников. — Игры скоро начнутся. Поберегите свою храбрость до тех пор.
— Правильно, — сказал угрюмый хозяин. — И, если я прижму большой палец, чтобы тебя помиловали, пусть Парки перережут нить моей жизни![40]
— Веревку, а не нить, хочешь ты сказать, — заметил Лидон насмешливо. — Вот тебе сестерций, купи себе веревку и удавись.
Титан-виноторговец схватил протянутую руку и так стиснул ее, что кровь брызнула из кончиков пальцев на одежды окружающих.
Все разразились хохотом.
— Я научу тебя, желторотый хвастун, разыгрывать передо мной героя! Я не какой-нибудь хилый перс, уж будь уверен. Как! Разве я не выступал наарене двадцать лет без единого поражения? Разве не получил я жезл из рук самого эдитора в знак победы и права почивать на лаврах![41] А теперь мальчишкабудет меня учить?! — Сказав это, он с презрением отшвырнул руку Лидона.
Ни один мускул не дрогнул на лице гладиатора — с той же улыбкой, с какой он до этого насмехался над хозяином, юноша стойко выдержал боль. Но, едва гигант выпустил его руку, он сразу весь подобрался, как тигр перед прыжком, волосы у него встали дыбом, и он с громким, яростным криком бросился на хозяина, который, хоть и был огромен, потерял равновесие и грохнулся на землю с таким шумом, словно скала рухнула, а рассвирепевший противник упал на него.
Еще несколько минут — и хозяину, пожалуй, не понадобилась бы и веревка, которую так любезно предлагал ему Лидон. Но, услышав шум, на помощь прибежала женщина, которая до тех пор была в доме. Эта новая противница была достойна гладиатора: рослая, сухощавая, с руками, способными на объятия отнюдь не ласковые. И неудивительно: нежная подруга виноторговца Бурдона некогда, как и он, сражалась на арене и выступала даже в присутствии самого императора. Говорили, что сам Бурдон, непобедимый на поле битвы, нередко уступал пальму первенства своей милой Стратонике. Едва это «нежное» создание увидело, какая опасность грозит ее худшей половине, она, не имея иного оружия, кроме того, которым снабдила ее природа, накинулась на гладиатора и, обхватив его вокруг пояса длинными, как змеи, руками, внезапным рывком оторвала от тела своего мужа, хотя гладиатор по-прежнему сжимал горло Бурдона. Так иногда какой-нибудь злобный конюх хватает за задние ноги пса и оттаскивает его от поверженного врага, и пес, поднятый на воздух, бессильный, все еще тянется к ненавистному горлу. Тем временем гладиаторы, радостные, довольные, возбужденные видом крови, столпились вокруг дерущихся; ноздри их раздувались, губы кривились в усмешке, глаза были прикованы к окровавленному горлу одного и стиснутым пальцам другого.