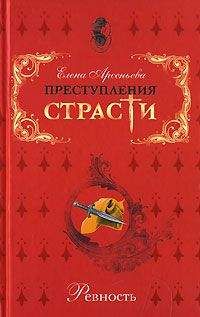Глава LI
Иногда королям бывает труднее въехать в столицу, чем выехать из нее (Продолжение)
Как всякое движение народных толп, натиск этот был страшен.
Малочисленные и кое-как выстроившиеся мушкетеры не могли управлять как следует лошадьми, и многие из них были смяты. Д’Артаньян хотел опустить занавески кареты, но молодой король вытянул руку со словами:
– Нет, господин д’Артаньян, я хочу видеть.
– Если вашему величеству угодно видеть, смотрите, – проговорил д’Артаньян.
И, обернувшись к толпе с яростью, делавшей его таким опасным, он обрушился на вожака бунтовщиков, который с пистолетом в одной руке и со шпагой в другой старался проложить себе путь к карете, борясь с двумя мушкетерами.
– Дорогу, черт побери, дорогу! – крикнул д’Артаньян.
При звуке этого голоса человек с пистолетом и шпагой поднял голову, но было уже поздно: шпага д’Артаньяна пронзила ему грудь.
– Ах, черт побери! – вскричал д’Артаньян, тщетно стараясь сдержать свой удар. – Зачем вы здесь, граф?
– Должна же свершиться моя судьба, – ответил Рошфор, падая на одно колено. – Я три раза оправлялся от ударов вашей шпаги, но от четвертого уже не оправлюсь.
– Граф, – сказал д’Артаньян с волнением, – я не видел, что это вы. Мне будет тяжело, если вы умрете с чувством ненависти ко мне.
Рошфор протянул д’Артаньяну руку.
Д’Артаньян взял ее. Граф хотел что-то сказать, но кровь хлынула у него горлом, по телу прошла последняя судорога, и он испустил дух.
– Назад, канальи! – крикнул д’Артаньян. – Ваш вожак умер. Вам нечего больше здесь делать.
Действительно, граф Рошфор был душой этого возмущения; толпа, увидев его смерть, дрогнула и обратилась в беспорядочное бегство. Правая сторона королевского экипажа почти очистилась от нее. Д’Артаньян с двадцатью мушкетерами бросился в Петушиную улицу, и весь отряд смутьянов рассеялся как дым, рассыпавшись по площади Сен-Жермен-л’Оксеруа в направлении набережной.
Д’Артаньян направился к Портосу, чтобы в случае надобности помочь ему.
Но Портос столь же хорошо справился со своей задачей, очистив от толпы бунтовщиков левую сторону королевского экипажа, где уже отдернулась занавеска, которую Мазарини, менее воинственно настроенный, чем король, велел опустить.
Портос был задумчив и даже печален.
– У вас странный вид для человека, одержавшего победу, – сказал ему д’Артаньян.
– Да и вы, мне кажется, чем-то взволнованы, – ответил ему Портос.
– Мне есть от чего: я только что убил старого друга.
– Неужели! – сказал Портос. – Кого же?
– Бедного графа Рошфора.
– Мне тоже пришлось убить человека, который мне показался знакомым. К несчастью, удар пришелся в голову, и кровь тотчас же залила ему лицо.
– И он ничего не сказал, падая?
– Нет, он сказал: «Ох».
– Понимаю, – сказал д’Артаньян, не в силах удержаться от смеха. – Если он больше ничего не сказал, то вы узнали не очень много.
– Ну что? – спросила королева.
– Ваше величество, – сказал д’Артаньян, – дорога свободна. Если вам угодно, мы можем продолжать наш путь.
Действительно, кортеж беспрепятственно проехал дальше до самого собора Богоматери, где он был встречен духовенством, с коадъютором во главе, приветствовавшим короля, королеву и министра, за благополучное возвращение которых он служил сегодня благодарственную мессу.
Во время мессы, почти перед самым концом ее, в собор вбежал запыхавшийся мальчик; быстро войдя в ризницу, он надел платье певчего и, протискавшись затем сквозь наполнявшую собор толпу, приблизился к Базену, который, в голубой рясе и с палочкой для зажигания свеч в руке, величественно стоял против швейцарца у входа, ведшего на хоры.
Почувствовав, что кто-то дергает его за рукав, Базен опустил глаза, благоговейно поднятые к небу, и узнал Фрике.
– Что такое? Как ты смеешь мешать мне при исполнении моих обязанностей? – спросил мальчугана Базен.
– Майяр, податель святой воды на паперти Святого Евстафия…
– Ну, что с ним?
– …во время свалки на улице получил сабельный удар в голову, – ответил Фрике. – Его ударил вот этот гигант, который вон там стоит, видите, в золотом шитье.
– Да? Ну, в таком случае ему не поздоровилось, – сказал Базен.
– Он умирает и хотел бы перед смертью исповедаться у господина коадъютора, который, как говорят, может отпускать самые тяжкие грехи.
– И он воображает, что господин коадъютор обеспокоит себя для него?
– Да, потому что господин коадъютор будто бы обещал ему это.
– А кто тебе это сказал?
– Сам Майяр.
– Ты его видел?
– Конечно, я был там, когда он упал.
– А что ты там делал?
– Я кричал: «Долой Мазарини! Смерть кардиналу! На виселицу итальянца!» Ведь вы сами учили меня это кричать.
– Замолчи, обезьяна! – сказал Базен, с тревогой оглядываясь по сторонам.
– Бедняга Майяр сказал мне: «Беги за коадъютором, Фрике, и если ты приведешь его ко мне, я сделаю тебя своим наследником». Подумайте только, дядя Базен, наследником Майяра, подателя святой воды с паперти Святого Евстафия! Теперь моя будущность обеспечена! Но я готов и даром оказать ему услугу. Что вы скажете?
– Пойду передам это господину коадъютору, – сказал Базен.
И, подойдя медленно и почтительно к прелату, он шепнул ему на ухо несколько слов, на которые тот ответил утвердительным кивком головы.
– Беги к раненому, – сказал Базен мальчику, – и скажи ему, чтобы он немного потерпел: монсеньор будет у него через час.
– Хорошо, – сказал Фрике, – теперь судьба моя обеспечена.
– Кстати, – сказал Базен, – куда отнесли его?
– В башню Святого Иакова.
В восторге от успеха своего посольства, Фрике, не снимая певческого костюма, в котором ему еще легче было пробираться сквозь толпу, поспешил к башне Святого Иакова.
Как только месса кончилась, коадъютор, выполняя свое обещание и даже не сняв церковного облачения, отправился в старую башню, которую так хорошо знал. Он поспел вовремя. Хотя раненый с каждой минутой становился все слабее и слабее, он был еще жив. Коадъютору открыли дверь комнаты, где лежал умирающий.
Через несколько минут Фрике вышел оттуда, держа в руках тугой кожаный мешок; он тотчас же открыл его и, к своему великому удивлению, увидел, что мешок был набит золотом.
Нищий сдержал слово: он сделал его своим наследником.
– Ах, мать Наннета! – воскликнул Фрике, задыхаясь. – Ах, мать Наннета!
Больше он ничего не мог сказать. Но если у него не было сил говорить, то ноги сохранили всю свою силу. Он опрометью помчался по улицам и, как марафонский гонец, павший на афинской площади с лаврами в руках, вбежал в дом советника Бруселя и в изнеможении грохнулся на пол, рассыпая из мешка свои луидоры.