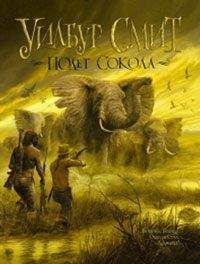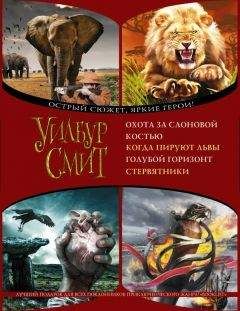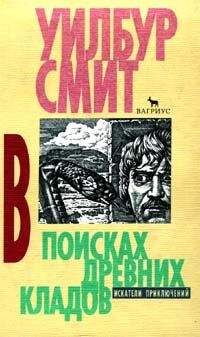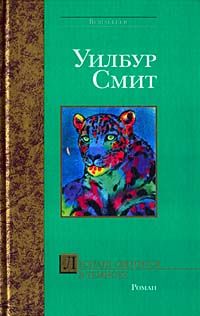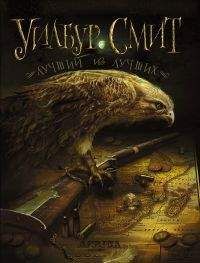Ознакомительная версия.
Желтый металл глубоким мерцающим блеском тысячелетиями сводил с ума человечество. Зуга поддался искушению потрогать гладкую прохладную поверхность тяжелых круглых бусин размером с ноготь, нанизанных в ожерелье на нитку из звериных жил.
— Пятьдесят восемь унций, — сообщил Харкнесс, — и металл необычайной чистоты, я пробу делал.
Он надел ожерелье через голову и уложил поверх белоснежной бороды. Только теперь Зуга заметил, что к ожерелью подвешено что‑то еще.
Подвеска изображала птицу — стилизованного сокола со сложенными крыльями, сидящего на круглом постаменте с узором из треугольников наподобие акульих зубов. Фигурка была величиной с большой палец. Столетиями касаясь человеческого тела, золото отполировалось так, что некоторые детали стерлись. Прозрачные зеленые камни служили глазами птицы.
— Подарок Мзиликази, — объяснил Харкнесс. — Король не видит особой пользы ни в золоте, ни в изумрудах… Да, — кивнул он, — это изумруды. Один из воинов Мзиликази убил в Выжженных землях старуху. У нее на теле и нашли этот кожаный мешочек.
— А где это — Выжженные земли? — спросил Зуга.
— Извини, забыл объяснить. — Харкнесс повертел в руках золотую птицу. — Импи короля Мзиликази опустошили земли вдоль границ, кое‑где на глубину ста миль, а то и дальше. Они истребили всех жителей и устроили что‑то вроде буферной полосы для защиты от вторжений — в первую очередь от вооруженных буров на юге, но и от других захватчиков тоже. Мзиликази зовет эту полосу Выжженными землями, и именно в них, к востоку от королевства, и убили ту одинокую старуху. Воины рассказывали, что она была очень странная, непохожая ни на одно известное племя, и говорила на непонятном языке.
Старик снял ожерелье и небрежно опустил в мешочек. Зугу пронзило острое чувство потери. Ему захотелось снова ощутить в руке тяжесть и маслянистую гладкость металла. Старик спокойно продолжал:
— Ну конечно, все слышали легенды о золоте и городах со стенами. Но это единственное, что свидетельствует в их пользу.
— Отец знал об ожерелье?
Харкнесс кивнул.
— Фуллер хотел купить его, предлагал вдвое больше, чем стоит золото.
Оба надолго замолчали, погрузившись каждый в свои мысли.
Зуга спросил:
— Каким путем отец пошел бы в Мономотапу?
— Ни с юга, ни с запада. Мзиликази, король матабеле, никого не пропускает через Выжженные земли; вдобавок у него какие‑то глубокие суеверия насчет своих восточных окраин — сам туда не суется и другим не позволяет. — Харкнесс покачал головой. — Думаю, Фуллер попытался бы подойти как раз оттуда, от португальского побережья. — Старик провел пальцем по карте. — Здесь высокие горы. Я их видел издалека, перейти будет трудно…
За окнами стемнело. Харкнесс прервал объяснения и устало выпрямился.
— Прикажи слуге расседлать лошадей и отвести в конюшню. Возвращаться уже поздно, заночуешь у меня.
Когда Зуга вернулся, слуга‑малаец задернул шторы, зажег лампы и разложил по тарелкам огненное карри из курицы и желтый рис. Харкнесс открыл новую бутылку капского бренди. Поев, мужчины отодвинули эмалированные оловянные тарелки и вернулись к карте. Час проходил за часом, но ни тот ни другой не замечал хода времени. Уютный свет лампы и выпитое бренди подогревали азарт. Хозяин то и дело вставал, чтобы подкрепить свой рассказ очередным трофеем. Он протянул Зуге кристалл кварца с четкими прожилками самородного золота.
— Если золото видно, значит, месторождение богатое.
Зуга понимающе кивнул.
— А почему вы сами не занялись разработкой жил?
— Мне ни разу не удавалось надолго задержаться на одном месте, — грустно усмехнулся старик. — Всегда была река, через которую хотелось переправиться, горная цепь или озеро, которых надо было достичь, или я преследовал стадо слонов. Не было времени рыть шахту, строить дом, растить стадо.
Первые лучи утренней зари уже сочились сквозь занавески.
Зуга воскликнул:
— Пойдемте со мной! Пойдемте искать Мономотапу!
Харкнесс рассмеялся:
— Я думал, ты собираешься искать отца.
— Да как угодно, — засмеялся в ответ Зуга. Он чувствовал себя как дома, словно знал старика всю жизнь. — Представьте лицо отца, когда он увидит, что вы пришли его спасать!
— Оно того стоит, — признал Харкнесс.
Веселье на его лице растаяло, сменившись таким глубоким сожалением, такой печалью, что Зуга ощутил непреодолимое желание протянуть руку и погладить изуродованное плечо. Харкнесс отстранился. Он слишком долго жил один и не привык, чтобы кто‑то его утешал.
— Пойдемте, — повторил майор.
— Я уже отпутешествовал свое, — глухо проговорил старый охотник. — Остались только кисти, краски да воспоминания.
Он обвел взглядом ряды холстов, брызжущих светом и радостью.
— Вы еще полны сил и жизни, — настаивал Зуга. — Вы столько знаете…
— Хватит! — с горечью оборвал его старик. — Я устал, а тебе пора. Давай, убирайся.
Лицо Зуги вспыхнуло гневом, он вскочил на ноги и несколько мгновений стоял, глядя на старика.
— Уходи! — повторил Харкнесс.
Молодой человек коротко кивнул:
— Отлично.
Он опустил взгляд на карту. Ее надо заполучить любой ценой… Впрочем, Харкнесс не согласится ни на какую цену. Нужно что‑то придумать, обязательно.
Зуга повернулся и прошагал к парадной двери. Собаки, спавшие на полу, вскочили и ринулись следом.
— Гарньет! — сердито крикнул он. — Седлай коней!
Он стоял в дверях не оборачиваясь, заложив руки за спину и нетерпеливо покачиваясь. Тощая фигура старика, ссутулившись, застыла у стола в свете лампы.
Слуга привел лошадь. Зуга отрывисто бросил через плечо:
— Будьте здоровы, мистер Харкнесс.
В ответ раздался дребезжащий старческий голос, который трудно было узнать:
— Приходи еще. Нам есть что обсудить. Возвращайся — через два дня.
Зуга вздохнул, расслабив напряженную позу. Он было обернулся, но старик лишь раздраженно махнул рукой. Майор лихо сбежал по лестнице, вскочил в седло и пустил коня в галоп по узкой разбитой колее.
Давно стих стук копыт, а Харкнесс все еще сидел за столом. Как ни странно, во время беседы боль почти не чувствовалась, отступив на самое дно сознания. Он снова ощутил себя молодым и здоровым, будто питаясь энергией собеседника. Но стоило мальчишке позвать его с собой, боль нахлынула с новой силой, словно желая утвердить свою власть. Гиена, которая поселилась в животе, росла с каждым днем, набирая силу и пожирая внутренности. Закрыв глаза, он представлял ее такой, какой видел тысячи раз в отблеске лагерных костров, — там, в чудесной стране, закрытой теперь навсегда. Чудовище прочно обосновалось внутри, его зловонное дыхание стояло в горле. Боль по‑звериному жадно вонзила клыки в его нутро. Из груди вырвался стон.
Ознакомительная версия.