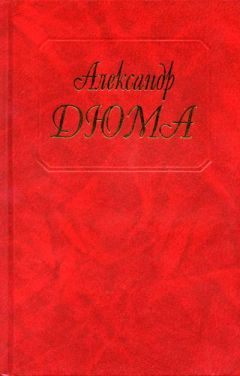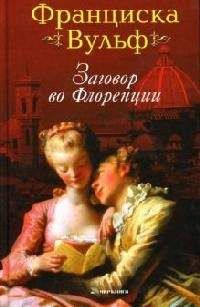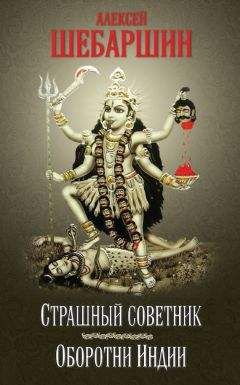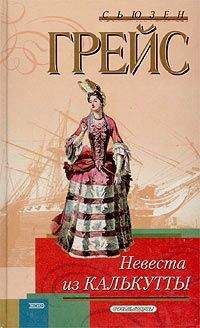— Этот человек — Божий гость, — возразил он, — этот человек неприкосновенен, и до него доберутся только переступив через мой труп.
— Ну что ж, переступим, — взор герцога сверкнул молнией при этой угрозе. — Уж не возомнил ли ты, что тот, кто шагнул как на ступеньку, ведущую к трону, на труп целого города, остановится из страха наступить на тело какого-то жалкого монаха?
— Так что́, надо?.. — с готовностью выступил вперед Венгерец, поднеся руку к кинжалу.
— Нет, не надо, успеется еще — вечно ты спешишь!.. Ну, — повторил Алессандро, обращаясь к фра Леонардо, — дай дорогу твоему герцогу!
— Моему герцогу? — воскликнул доминиканец. — Не знаю такого. Мне известно, кто такой гонфалоньер, известно, кто такой приор, я готов повиноваться бальи; но я не признаю никакого герцога и не знаю никакого герцогства.
— Тогда, — сказал герцог Алессандро, скрипнув зубами от бешенства, — дай дорогу твоему господину!
— Мой господин — Бог! — с прежней решимостью ответил фра Леонардо. — У меня нет другого господина, кроме того, что на небесах, и меж тем, как голос внизу говорит мне: «Уйди!» — я слышу другой, свыше, и он велит мне: «Останься».
— И останешься! — многозначительно проговорил Венгерец.
Но герцог с силой топнул ногой и бросил на сбира взгляд, заставивший того отступить.
— Кому сказано ждать! — прикрикнул он. — Когда мне случается проявлять терпение, изволь потерпеть и ты. Не видишь разве, я не хочу пугать девушку. Что ж, монах, — продолжал он, — раз ты не признаешь ни герцога, ни господина, уступи дорогу силе!
И, повинуясь знаку герцога, Венгерец и Джакопо оттащили монаха, и открывшийся взглядам всех, Строцци оказался лицом к лицу с Алессандро.
— Герцог Алессандро, — заговорил старик и, бросая оскорбление герцогу, инстинктивно прижал к себе свое дитя, — я полагал, что тебе хватает твоего канцлера, твоего барджелло, и твоих стражников, чтоб не играть самому роль сбира. Вижу, что ошибался.
Герцог расхохотался.
— А ты не учитываешь этого наслаждения — открыто сойтись с врагом? Или ты принимаешь меня за одного из тех, кто пробирается ночью в город, отсиживается днем по норам и терпеливо, по-предательски выжидает момента, чтобы, выбросив руку в темноте, исподтишка ударить в спину? Нет, я наступаю при солнечном свете и средь белого дня явился сказать тебе: «Строцци, мы разыграли с тобой роковую партию, где ставкой была наша жизнь; ты проиграл ее, Строцци, — плати!»
— Да, — ответил Строцци, — но не могу при этом не восхититься осмотрительностью игрока, приходящего требовать долг со столь сильным подкреплением!
— Уж не решил ли ты, случайно, что я чего-то боюсь? Думаешь, один я не стал бы разыскивать тебя повсюду, где только надеялся встретить? О! Ты впадаешь в довольно странное заблуждение и принимаешь меня за кого-то другого.
Обернувшись к двум сбирам, он приказал:
— Джакопо, Венгерец, выйдите, закройте за собой дверь и, что бы вы ни услышали, не смейте входить, пока я не позову вас.
Сбиры хотели было воспротивиться, но Алессандро топнул ногой; отпустив фра Леонардо, преклонившего колени на молитвенную скамеечку, оба вышли и затворили дверь.
— Ну вот я и один перед тобою, Строцци, — с беспредельным высокомерием заявил герцог, — один против вас двоих. Ах, да! Понимаю: я вооружен, тогда как вы безоружны. Обождите-ка. Смотри, Строцци, я бросаю шпагу.
И действительно, герцог вытащил шпагу и бросил ее себе за спину.
— На, Строцци, возьми этот кинжал. И он протянул свой кинжал Строцци.
— Воспрянь, древний римлянин… Разве не было в античные времена Виргиния, убившего дочь, и Брута, убившего царя? Выбирай же одно из двух. Нанеси удар, обессмерть свое имя, как они!.. Ну, бей! Да бей же! Чем ты рискуешь? Даже не головой: тебе и самому ясно, что она уже на плахе. А ты, монах, что удерживает тебя? Подбери шпагу и нанеси мне удар, зайдя со спины, если при взгляде мне в лицо у тебя дрогнет рука.
— Господь наш запрещает священнослужителям проливать кровь, герцог Алессандро, — со спокойной твердостью возразил на эти слова фра Леонардо, — а то я не передоверил бы другим рукам дело освобождения отчизны и уже давно ты был бы мертв, а Флоренция — свободна.
— Ну как, Строцци, думаешь, мне страшно? — спросил герцог Алессандро.
Последовала пауза, и ею воспользовалась Луиза.
— Нет, монсиньор, нет, — заговорила она трепетным голосом, — всем известно, что вы храбрец. Но будьте столь же добры, сколь вы отважны.
— Молчи, дитя! — вмешался Строцци. — По-моему, ты просишь его!
— Отец, — попыталась уговорить отца Луиза, пока Алессандро вкладывал шпагу обратно в ножны, а кинжал в чехол у пояса, — отец, не мешайте, Господь придаст силу моим словам. Монсиньор!.. — продолжала она с поклоном.
Но, оторвавшись от распятия, к ней бросился фра Леонардо с криком:
— Подымись, дитя! Никаких соглашений между невинностью и злодейством, никаких договоров у ангела с демоном! Встань!
— Ты не прав, монах, — сказал герцог с тем свирепым смешком, которого обычно страшились куда более его гнева, — она была так хороша при этом, что я чуть было не позабыл, как меня тут оскорбляли, чтобы помнить только, как я влюблен.
— Дитя! Дитя мое! — вырвался вопль у Строцци, и, схватив дочь, он судорожно обнял ее.
— Святой Боже! — поддержал его фра Леонардо, скорбно воздевая руки к небу. — Если, узря подобные дела, ты не ниспошлешь громы небесные, скажу, что в милосердии своем ты велик куда более, нежели в правосудии.
— Джакопо! Венгерец! — крикнул герцог, помедлив с минуту, словно давая Всевышнему время поразить его.
Вбежали оба сбира.
— К вашим услугам, ваше высочество, — произнес Венгерец.
— Передайте этих двоих в руки стражи, — распорядился герцог, указывая на фра Леонардо и Филиппо Строцци. — Пусть их отведут в Барджелло.
— Монсиньор! Монсиньор! — взмолилась Луиза. — Небом вас заклинаю, не разлучайте отца с дочерью, не вырывайте пастыря у Господа.
— Молчи и останься, — велел ей Строцци. — Ни слова больше, ни единого шага за нами, не то я прокляну тебя!
— О! — прошептала сломленная горем Луиза, падая на колени.
— Прощай, дитя мое, — сказал Строцци, — отныне печься о тебе будет некому, кроме Бога; но никогда не забывай, что в смерти моей повинен Лоренцо.
— Отец, отец! — воскликнула девушка, протягивая руки вслед старику.
Но тот, глухой к ее моленьям, бросил ей последнее прости, в котором гнева было чуть ли не больше, чем нежности, и вышел.
— О монсиньор! Монсиньор!.. — не поднимаясь с колен, воззвала Луиза к герцогу. — Неужели я бессильна хоть как-то помочь отцу?