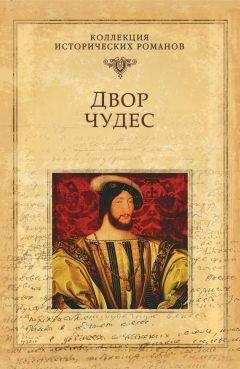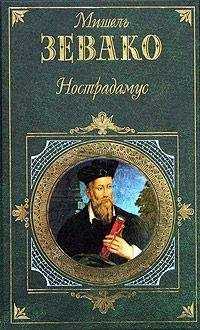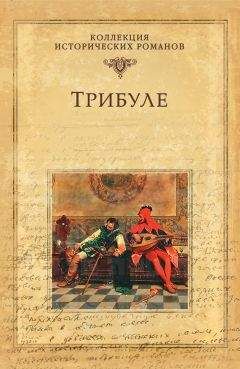Этьен Доле бросился на свою подстилку и закрыл глаза. Однако уснуть он не уснул.
Но в пять часов утра, когда дверь камеры отворилась и вновь появился Жиль Ле Маю, Этьен Доле тотчас же вскочил с бодрым видом.
Вместе с тюремщиком вошел священник.
— Сын мой, — сказал он, — я принес вам утешение, в котором религия кротости, благости и человеколюбия не отказывает даже самым блудным своим сынам.
Но сказал он это ледяным голосом.
— Сударь мой, — ответил Доле, — я вполне утешен и не нуждаюсь в вашей поддержке. Впрочем, совершенно искренне благодарен вам за нее.
— Как сын мой! В этот миг вы не желаете предстать перед Богом, исповедать свои грехи и прегрешения? Я принес вам их отпущение.
— Я сам себе их отпустил, — сказал Доле.
— Богохульник! Но святое таинство мессы вы все же выслушаете!
— Что ж, меня отведут туда силой!
Священник перекрестился. Это было, очевидно, условным знаком, потому что стражники и тюремщики тут же набросились на Доле, повалили на землю, перевязали веревками и унесли.
Осужденного положили в капелле, и заупокойная месса началась.
«Dies irae! Dies illa!»[2]
Монахи, стоявшие кругом, вторили грозному хоралу; связанный и окруженный стражей, Доле слушал и переводил про себя.
«De profundis ad te clamavi!»[3]
Предстоятель, словно с какой-то мрачной яростью, запевал эти мотивы смерти… Лишь один монах, стоявший рядом с Доле, не пел. Через прорези его капюшона сверкали черные глаза — удивительный взгляд, ироничный, сильный, победный…
Пытка заупокойной мессой окончилась. Доле развязали ноги, но на руках путы затянули еще сильней. Процессия заняла места.
Впереди члены Черного и Белого братств несли огромное распятие, потом шли вереницы монахинь, потом священники, бормотавшие отходные молитвы, потом множество монахов, все с закрытыми лицами и с большими восковыми свечами в руках.
За ними шел Доле, окруженный еще монахами.
Доле шагал совершенно твердо.
Рядом с ним был тот монах, чей странный взгляд он видел в капелле.
Как только шествие тронулось, во всех церквах зазвонили за упокой.
Доле не очень-то и заметил, что ведут его не на Гревскую площадь, а на площадь Мобер.
Издалека, из-за моста Сен-Мишель, доносился невнятный ропот.
Поскольку жители города попасть сюда не могли, появились и выстроились вдоль улиц обитатели Сите и университета.
Главным чувством в этой толпе была жалость. Но иногда еле заметно проявлялись порывы гнева и возмущения.
Люди, не таясь, выкрикивали, что убийство неповинного — мерзость, что смерть его падет на председателя суда Фея, на которого за неправедный приговор особенно негодовали.
Монах, шагавший рядом с Доле, заметил слезы в толпе и с едкой иронией прошептал:
— Dolet pia turba dolet![4]
Осужденный встрепенулся: он узнал голос Лойолы! Подняв голову, он бестрепетно ответил:
— Sed Dolet ipse non dolet[5]. Так это вы, господин Лойола? Что ж, вы увидите, как умирает человек, который не боится ничего — даже вас он сейчас не боится!
Вскоре вышли на тесную площадь, вокруг которой собрались всадники, солдаты и монахи.
Монахи с зажженными свечами тотчас обступили костер. Чтобы подняться на него, подставили лестницу.
Палач с подручными подошли к осужденному и хотели втащить его на лестницу.
— Стой, палач, — сказал Доле. — Помощь мне не нужна.
И он сразу же поднялся по ступенькам, хотя связанными руками не мог ни за что ухватиться. Взойдя наверх, он прислонился к столбу.
Палач тут же накрепко привязал его веревкой, несколько раз обмотанной вокруг туловища.
Доле приготовился говорить. Но монахи по знаку Лойолы страшными голосами запели «De profundis» — ни одного слова несчастного ученого нельзя было расслышать.
В тот же миг подручный палача зажег факел, а палач взял его в руки.
Но Лойола тотчас вырвал факел у него из рук.
— Так погибнут грешники от лица Господа Иисуса! — возгласил он с яростью и поднес факел к слою хвороста в основании костра.
В мгновение ока к костру наклонились все свечи. Серый, пахучий дым, похожий на дым из печи булочника, поднялся вверх и окутал Доле. Еще несколько секунд было видно его безмятежное лицо.
Потом взметнулось пламя, разрезав дым багровыми полосами, — широкие, волнистые, гибкие языки пламени, колыхавшиеся на ветру, как зловещие стяги, подбиравшиеся к осужденному, как острия свистящих стрел…
Громкий, душераздирающий вопль сожаления взметнулся из толпы…
Потом вдруг послышался испуганный ропот, потом чей-то рев, и несколько сотен обезумевших, растрепанных, насквозь мокрых людей обрушились на всадников, окружавших костер. Впереди неслись Манфред и Лантене — мертвенно-бледные, исступленные!
— Огонь! Огонь из всех стволов! — громовым голосом прокричал Лойола.
Некий человек на коне отдал команду:
— Целься! Пли!
Это был Монклар.
Гром от двухсот стволов, разряженных разом, прокатился над парижским кварталом — и вместе с ним вопль толпы. Полсотни воров упало — среди них Манфред с перебитой рукой.
— За мной! — кричал Лантене.
Свирепо прогремел новый залп. Убитые разом рухнули, раненые повалились со страшными проклятьями.
Неразлучные Кокардэр и Фанфар упали друг подле друга.
— За мной! — кричал Лантене, не замечая, что с ним осталось не больше десятка людей.
Его глаза — безумные, налившиеся кровью, — были направлены только на одно жуткое зрелище… Там, в нескольких шагах от него, над головами солдат и монахов, нечто красное, серое, черное — пламя и дым — поднималось все выше, выше — выше крыши соседних домов. И виднелся обугленный столб, и огромный горящий костер рассыпал багровые искры, и пылала кошмарная топка, а посредине — несчастное тело ужасного вида, содрогавшееся, скорченное, перекрученное, ужавшееся, потерявшее человеческий облик — да и всякий мыслимый облик! — догорало, потрескивая…
Вдруг это зрелище исчезло.
Обрушился костер. Рухнул столб.
Все было кончено.
* * *
Лантене ринулся вперед с кинжалом в руке.
На каждом шагу его рука поднималась, молниеносно опускалась — и падал солдат.
Так он прокладывал кровавый путь к Монклару, а тот неподвижно сидел верхом, вперив в него взор, словно с ужасом видел приближение зверя из Апокалипсиса.
Только при каждом смертоносном движении Лантене из груди его вырывался какой-то яростный рык.
Лантене приближался к Монклару. Тот был в его власти.
Он был уже рядом с конем.
Подобрался.