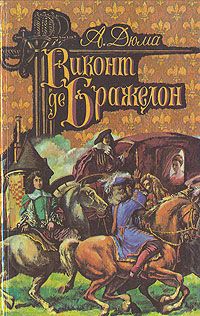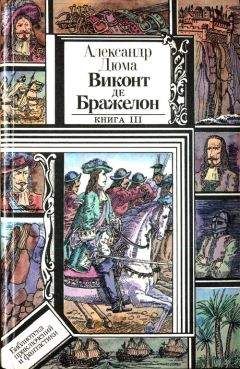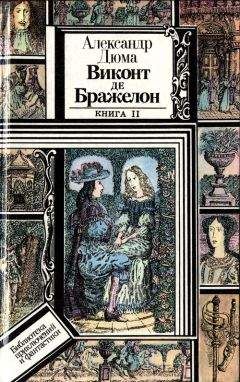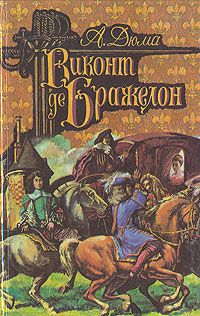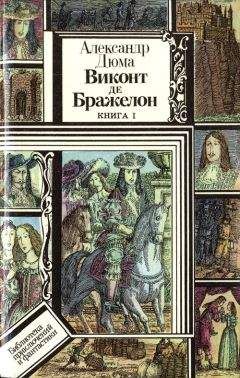И лейтенант громко расхохотался.
— Лягу сейчас, — решил он, — и засну. Мой ум устал от впечатлений сегодняшнего вечера. Завтра он будет яснее.
Дав самому себе такой совет, он завернулся в плащ.
Минут через пять он уже крепко спал, стиснув кулаки, раскрыв рот, из которого вырывались не тайны, а звучный храп, свободно разносившийся под величественными сводами огромной передней.
Едва солнце первыми лучами осветило верхушки деревьев в парке и крыши замка, как юный король, страдавший бессонницей от любви и проснувшийся уже два часа назад, сам отворил ставни и бросил пристальный взгляд во двор безмолвного замка.
Он увидел, что настало условленное время: на больших башенных часах стрелка показывала уже четверть пятого.
Не будя камердинера, спавшего глубоким сном в нескольких шагах от него, он оделся сам. Камердинер в испуге прибежал помогать ему, думая, что оказался неисправным по службе, но Людовик отпустил его, приказав не говорить никому ни слова.
Потом он спустился по маленькой лестнице, вышел через боковую дверь и увидел у стены парка всадника, державшего под уздцы лошадь.
Всадника этого под широким плащом и надвинутой шляпой нельзя было узнать.
Лошадь была оседлана очень просто, и самый опытный глаз не нашел бы в ней ничего необыкновенного.
Людовик взял в руки повод; офицер держал ему стремя, не сходя с седла, и тихим голосом спросил приказаний его величества.
— Поезжайте за мной!
Офицер пустил свою лошадь рысью за Людовиком XIV. Так они добрались до моста.
Когда они переехали через Луару, король повернулся к своему спутнику:
— Поезжайте вперед, все прямо, пока не заметите кареты. Увидев ее, возвращайтесь известить меня. Я буду ждать вас здесь.
— Не соблаговолит ли ваше величество сообщить мне приметы этого экипажа?
— В нем приедут две дамы. Возможно, что с ними будут горничные.
— Ваше величество, я не хотел бы ошибиться. Нет ли еще каких-нибудь особенностей?
— На карете, вероятно, будет герб кардинала.
— Этого мне достаточно, — сказал офицер, знавший теперь точно, кого он должен искать.
Он поскакал в указанную сторону. Не проехал он и пятисот шагов, как увидел за пригорком четырех мулов и карету.
За первой каретой следовала другая.
Достаточно было офицеру взглянуть на них, чтобы убедиться, что это те самые экипажи, которые ему поручено было отыскать.
Он тотчас повернул назад и, подъехав к королю, доложил:
— Ваше величество, экипажи близко. В одном две дамы со своими служанками, а в другом лакеи, провизия и поклажа.
— Хорошо, хорошо, — взволнованно отвечал король. — Поезжайте, прошу вас, и скажите этим дамам, что придворный кавалер желает засвидетельствовать им свое почтение.
Офицер поскакал галопом.
— Черт возьми! — ворчал он, погоняя лошадь. — Вот новая должность, и, надеюсь, почетная! Я жаловался на свое ничтожество — и вдруг стал наперсником короля. Я — мушкетер! Можно лопнуть от гордости.
Он подъехал к карете и выполнил поручение, как учтивый и искусный посредник.
Действительно, в карете сидели две дамы: одна — замечательная красавица, хотя и несколько худощавая; другая — менее красивая, но чрезвычайно живая и грациозная. Легкие морщинки на лбу указывали на ее сильную волю. Проницательный взгляд ее живых глаз был красноречивее всех любезных слов, общепринятых в те времена.
Д’Артаньян обратился ко второй и не ошибся, хотя первая, как мы сказали, была гораздо красивее.
— Сударыня, — поклонился он, — я лейтенант королевских мушкетеров. Здесь, на дороге, вас ждет один кавалер, желающий засвидетельствовать вам свое почтение.
При этих словах черноглазая дама вскрикнула от радости, выглянула в дверцу кареты и, видя, что король скачет к ним навстречу, протянула к нему руки с возгласом:
— Ах, дорогой государь!
Слезы брызнули из ее глаз.
Кучер остановил лошадей, горничные в смущении встали, а другая дама слегка поклонилась и улыбнулась той насмешливой улыбкой, какую вызывает ревность на уста женщины.
— Мария, милая Мария! — вскричал король, схватив руки дамы с черными глазами.
Он сам отворил тяжелую дверцу кареты и с таким пылом помог даме выйти, что она очутилась в его объятиях, прежде чем ступила на землю.
Лейтенант, стоявший по другую сторону кареты, все видел и слышал, не будучи, однако, никем замечен.
Король взял Марию Манчини под руку и подал кучерам и лакеям знак, чтобы они ехали дальше.
Было около шести часов утра. Дорога была очаровательна. На деревьях со свежею, едва распускавшеюся зеленью, точно алмазные капли, блестела утренняя роса. Ласточки, недавно вернувшиеся с юга, грациозно кружились над водой; ароматный ветерок пролетал по дороге и рябил гладкую поверхность реки. Вся эта красота, благоухание цветов, вздохи земли опьяняли влюбленных. Они шли рядом, тесно прижавшись друг к другу, глядя друг другу в глаза, держась за руки; они двигались медленно, не начиная разговора: слишком много хотелось им сказать.
Офицер заметил, что брошенная королем лошадь не стоит на месте и беспокоит Марию Манчини. Он воспользовался этим предлогом, подошел ближе к влюбленным и взял лошадь под уздцы; став между обеими лошадьми и удерживая их за поводья, он не упустил ни одного слова, ни одного движения влюбленных.
Первой заговорила Мария.
— Ах, ваше величество, — сказала она, — вы не покидаете меня!
— О нет… — отвечал король. — Вы видите, Мария!
— А мне часто говорили, что, если нас разлучат, вы тотчас забудете меня.
— Милая Мария, неужели вы только сегодня заметили, что мы окружены людьми, которым выгодно нас обманывать?
— Но, однако… ваше величество… Это путешествие, этот союз с Испанией!.. Вас женят!
Людовик опустил голову.
Офицер увидел, как, словно кинжал, выхваченный из ножен, сверкнули глаза Марии Манчини.
— И вы ничего не сделали для нашей любви? — спросила она, помолчав минуту.
— Ах, Мария! Как можете вы думать это! Я на коленях молил свою мать. Я сказал ей, что все мое счастье в вас! Я даже грозил…
— И что же? — живо спросила она.
— Королева написала в Рим, и ей ответили, что брак между нами не будет считаться действительным и папа расторгнет его. Увидев наконец, что нет никакой надежды, я просил по крайней мере отсрочить мою свадьбу с инфантой.
— Однако вы уже в дороге и спешите навстречу невесте.
— Что ж делать? На мои просьбы, мольбы, слезы мне отвечали государственными соображениями.