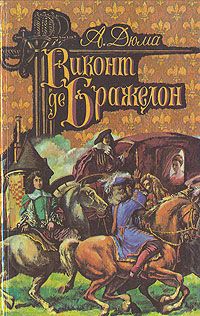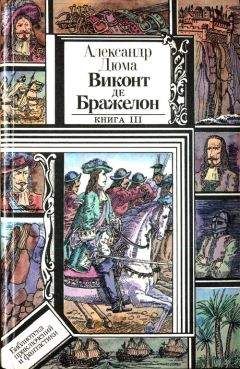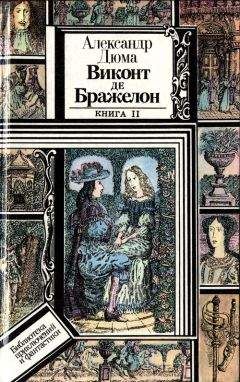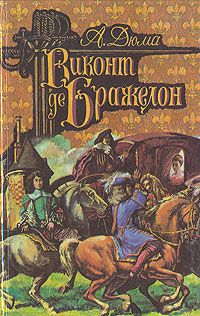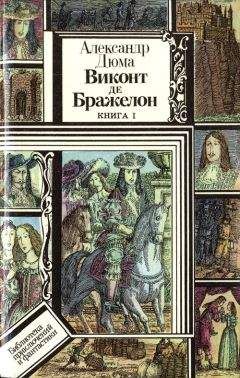— Однако вы уже в дороге и спешите навстречу невесте.
— Что ж делать? На мои просьбы, мольбы, слезы мне отвечали государственными соображениями.
— И что же?
— Что же?.. Что делать, когда столько людей соединилось против меня!
Мария, в свою очередь, опустила голову.
— Значит, я должна навсегда проститься с вами! — промолвила она. — Вы знаете, что меня удаляют… отправляют в ссылку. Мало этого, вы знаете, меня хотят выдать замуж!
Людовик побледнел и приложил руку к сердцу.
— Если бы дело шло только о моей жизни — меня так измучили, что я, вероятно, покорилась бы; но я думала, что дело идет о вашей жизни, и потому сопротивлялась, надеясь сохранить вам себя, ваше достояние…
— Да, мое достояние, мое сокровище! — прошептал король, пожалуй, скорее любезно, чем страстно.
— Кардинал уступил бы, — сказала Мария, — если бы вы обратились к нему и настоятельно потребовали его согласия. Кардинал назвал бы короля своим племянником, понимаете вы? Ради этого он решился бы на все, даже на войну! Уверенный, что он один будет править, воспитав короля и дав ему в жены свою племянницу, кардинал поборол бы всех противников, опрокинул бы все препятствия. Ах, ваше величество, я отвечаю вам за это! Ведь я женщина и очень проницательна во всем, что касается любви.
Ее слова производили на короля странное воздействие. Они не возбуждали его страсть, а охлаждали ее. Он замедлил шаги и проговорил поспешно:
— Что ж делать? Все против нас!
— Кроме вашей воли, не так ли, ваше величество?
— Ах боже мой! — вздохнул король, покраснев. — Разве у меня есть воля?
— О! — с горечью прошептала Мария Манчини, оскорбленная его ответом.
— У короля одна воля: та, которую ему диктует политика, та, которую предписывает ему польза государства.
— О, так вы не любите! — вскричала Мария Манчини. — Если бы вы любили меня, у вас была бы воля.
При этих словах Мария подняла глаза на своего возлюбленного и увидела, что он бледен и расстроен, как изгнанник, навсегда расстающийся с родиной.
— Обвиняйте меня, — воскликнул король, — только не говорите, что я не люблю вас!
Они долго молчали после этих слов, которые молодой король произнес с глубоким и искренним чувством.
— Я не могу себе представить, — заговорила Мария, делая последнюю попытку, — что завтра и послезавтра я не увижу вашего величества. Не могу представить, что мне придется вести печальную жизнь вдали от Парижа, что губы старика, чуждого мне, будут прикасаться к той руке, которую теперь держите вы. Нет, нет, не могу думать об этом; сердце мое разрывается от отчаяния…
И действительно, Мария зарыдала.
Растроганный король поднес платок к губам и подавил глухой стон.
— Смотрите, — продолжала она, — кареты остановились, сестра ждет меня. Настала решительная минута. То, что вы скажете теперь, определит всю нашу жизнь… Ах, ваше величество! Вы хотите, чтобы я потеряла вас! Вы хотите, Луи, чтобы та, которой вы сказали: «Я люблю тебя», — принадлежала другому, а не своему королю, не своему владыке, не своему любимому? Ах, Луи, будьте мужественны, одно слово, только одно… Произнесите: «Я хочу!» — и жизнь моя сольется с вашей, сердце мое будет вашим…
Король не отвечал.
Мария взглянула на него, как Дидона на Энея в полях Элизиума, с гневом и презрением.
— Прощайте же, — сказала она. — Прощай, жизнь, прощай, любовь, прощай, небо!
И она сделала шаг в сторону. Король остановил ее, схватил ее руку и прижал к губам. Отчаяние взяло верх над его решимостью: он уронил горячую слезу на прелестную ручку. Мария вздрогнула, как будто эта слеза действительно ее обожгла.
Она увидела влажные глаза короля, его бледное лицо, его сжатые губы и воскликнула с непередаваемым выражением:
— Ах, ваше величество, вы король, вы плачете, а я уезжаю!
Вместо ответа король закрыл лицо платком.
У офицера вырвался такой громкий вздох, что обе лошади испугались.
Разгневанная Мария Манчини отвернулась от короля, бросилась в карету и крикнула кучеру:
— Поезжай! Скорей! Скорей!
Кучер повиновался, ударил по лошадям, и тяжелая карета покачнулась на скрипучих осях. Король Франции остался один, в раздумье, в отчаянии, не смея взглянуть ни вперед, ни назад.
XIV. Король и лейтенант обнаруживают хорошую память
Король, как все влюбленные в мире, долго и пристально смотрел в ту сторону, где исчезла карета, уносившая его возлюбленную; сто раз он оборачивался и наконец, успокоив немного волнение сердца и мыслей, вспомнил, что он не один.
Офицер все еще держал лошадей под уздцы, все еще надеялся, что король изменит свое решение.
«Есть еще возможность, — думал он, — остановить карету: стоит только сесть на коня и догнать ее».
Но лейтенант мушкетеров обладал слишком смелой и богатой фантазией; она далеко оставляла за собою воображение короля, которое никак не могло возвыситься до такого полета.
Он просто подошел к офицеру и печальным голосом произнес:
— Все кончено… Едем!
Офицер, подражая его движениям, его медлительности и грусти, медленно и печально сел на лошадь.
Король поскакал. Офицер последовал за ним.
На мосту Людовик обернулся в последний раз. Офицер, терпеливый, как бог, у которого позади и впереди вечность, все еще надеялся, что к королю вернется энергия. Но тщетно. Людовик выехал на улицу, ведущую к замку, и к семи часам вернулся во дворец.
Когда король вошел в свои комнаты и офицер заметил (он все замечал!), что в окне кардинала приподнялась штора, он глубоко вздохнул, как человек, с которого снимают тяжкие оковы, и сказал вполголоса:
— Ну, брат, теперь уж кончено!
Король позвал приближенного.
— Я никого не принимаю до двух часов, вы слышите?
— Ваше величество, — ответил приближенный, — вас хотел видеть…
— Кто?
— Лейтенант ваших мушкетеров.
— Хорошо! Впустите его!
Офицер вошел.
По знаку, данному королем, приближенный и слуга удалились из комнаты.
Людовик проводил их взглядом; когда они затворили за собою дверь и портьера опустилась за ними, он сказал:
— Вы своим появлением напоминаете мне, что я забыл предписать вам молчание.
— Ах, ваше величество, вы напрасно утруждаете себя таким приказанием. Видно, что вы не знаете меня!
— Да, господин лейтенант, вы правы. Я знаю, что вы умеете молчать; но я ведь не предупреждал вас.
Офицер поклонился.
— Не будет ли еще каких-нибудь приказаний, ваше величество? — спросил он.
— Нет, можете идти.