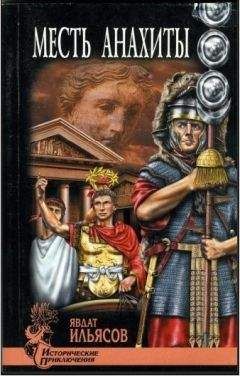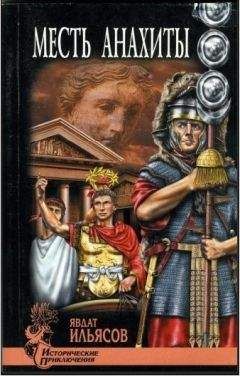«Серебро в пять раз дешевле золота, но с бирюзой и сердоликом эту чашу можно продать за три тысячи. Нет, не продам», — решил Красс.
Прижавшись друг к другу, как две сестры, сцепив ручки, стояли две большие вазы из серебра с позолотой, с четким рельефным узором снаружи и множеством серебряных монет внутри.
Они долго считали монеты, грудой высыпав их на стол. В каждой вазе оказалось по тысяче драхм.
— Итак, прибыль. Шесть за пленных, пять за золотую чашу, три за серебряную, две тысячи монетами, да обе вазы по тысяче — всего…
— Восемнадцать тысяч, — записал Эксатр.
— Небогатый город, — сказал с досадой проконсул.
— Здесь, до самой Селевкии, нет больших, богатых городов, — вздохнул Едиот.
— А ваш хваленый Иерусалим? — вдруг напомнил Красс.
— О Яхве… — прошептал еврей побелевшими губами. Он понял: при Крассе лучше молчать. Любое слово будет обращено тебе же во зло. И дел никаких с ним не надо иметь. Прогадаешь. — Иерусалим, — сказал он бодро, — уже который год верно служит великому Риму.
— Мы это проверим. Пиши запродажную на пленных! — велел Красс рабу.
Едиот, угадав человека с Востока, обратил растерянный взгляд к невольнику и увидел на руке Эксатра чем-то знакомое кольцо с алым камнем. Он испуганно наклонился, разглядел таинственную надпись — и волосы зашевелились у него на голове.
Здесь, на Востоке, странное кольцо ни у кого не вызывало зависти и неотступного желания непременно им завладеть.
Оно, как заметил Красс, внушало всем тихий ужас, страх суеверный. И создавало вокруг Эксатра дух безмолвного преклонения. Значит, не зря проконсул чурался его. В этом кольце что-то есть…
— Я… передумал. Я… не возьму рабов.
— Что так? — стиснул зубы проконсул.
— Ну, время такое…
Красс подступил к нему близко.
— Ступай за деньгами, — сказал он сквозь зубы.
— Иду, — сник еврей. И побрел, невеселый и бледный, в обоз.
— Теперь — убытки. — Красс, подгребая ладонью, ссыпал монеты назад, в серебряные вазы с позолотой. — В первой когорте убито двести солдат. Во второй — триста. Прибавь к ним центурию Корнелия Секста.
— Шестьсот. Одна когорта, — не двинув бровью, занес Эксатр стило над писчей доской.
Уже вечерело. Терраса наполнилась золотистым светом заката. И монеты из серебра от него будто сделались золотыми. Ах, если б не «будто»…
— Постой… — Красс озадаченно потер тяжелый подбородок.
С подсчетом убытков у него возникло затруднение. Как исчислить их в драхмах? Приход, конечно, превышает расход, это ясно. Однако итог не радует Красса.
Ибо расплывчат, неточен. В самом деле, сколько стоит мертвый римский солдат?.. Заглянул Мордухай.
— Гы-ы… Хэ-хэ…
— Впусти.
Пришел Петроний — узнать, как чувствует себя проконсул.
— Хвала Юпитеру, ты здоров! — рванулся он было к начальнику, но Красс пригвоздил его к дверному косяку хмурым взглядом.
«Чем я опять ему не угодил?» — похолодел военный трибун. И поспешил уйти.
Красс увидел сквозь решетку, как Петроний, на агоре, отстранив солдат, пробился к легату Октавию.
Октавий, дородный, рослый, на голову выше Петрония, сделал вопросительное лицо. Петроний что-то кратко сказал и уныло развел руками. Октавий безразлично пожал плечами. Петроний сердито и быстро заговорил о чем-то, подкрепляя каждое слово резким взмахом ладони. Октавий с явным сомнением покачал головой. Петроний умоляюще взял его за руку. Октавий с любопытством склонил к нему ухо, недоверчиво усмехнулся. Задумался. Согласно кивнул. Военный трибун убедил его в чем-то.
Поскольку отсюда, сверху, не слышно слов, кажется, что совещаются двое глухонемых. Они оживленно заторопились куда-то. Что затевают? У Красса опять разболелась голова.
* * *
— Жених поцарапал? — хмуро спросил Фортунат. Лицо Тита, от переносицы, мимо глаза, через правый угол рта, под челюсть, рассекала глубокая узкая рана.
— Нет, я его сразу уложил, — невнятно сказал ему Тит левой частью рта: «шрашу… лошил». — Другой изловчился. Крепко бились, стервецы! Храбрый народ. — В отличие от других солдат, которые, как всегда после боя, угрюмо молчали и не хотели видеть друг друга, Тит был возбужден, от боли, что ли, глаза его сверкали. Он криво сплюнул красную слюну. И, морщась, прошамкал: — Нашел отша? В овжаге…
Фортунат взял в обозе лопату и спустился в овраг. Отец теперь не скажет: «Копай». Сам догадывайся, что делать.
Навстречу с гулом поднялась туча потревоженных мух. Здесь, в горячей яме, уже завис приторный запах тления. Центурион, с открытыми глазами и отвалившейся челюстью, лежал, как будто соответственно чину, в стороне от других. Его сбросили последним. Лицо, странно маленькое и костлявое, уже подернулось желтизной.
Сын попытался закрыть ему очи и подвязать челюсть, но они не поддавались. Поздно. Зарывая, придется набросить, оторвав от хитона, на лицо кусок ткани, чтобы земля не попала в рот и глаза. Хотя мертвым, конечно, это уже все равно. Сыпь в зрачки горячую золу, не мигнут.
Долго, со страхом и отчужденностью, которую внушает смерть, смотрел Фортунат отцу в глаза. И отец, уже из других, непонятных миров, с укоризной смотрел в глаза сыну.
«Если бы нам с тобой… пять несчастных югеров земли».
Фортунат заплакал. Он вспомнил детство. Отец никогда не обижал ребенка, не бил, не ругал, как другие отцы. Добрейший был человек! Жаль, мы это узнаем слишком поздно.
Может быть, поначалу он тоже не мог видеть кровь и грязь войны. И не отличался черствым безразличием ко всему на свете кроме добычи. Скорей всего, так и было. Природный пахарь! Его призвание — растить, а не жечь.
Фортунат, впервые за девять месяцев похода, увидел мысленно хилую мать, о которой отвык уже думать. И сестру свою, тихую, бледную. И двух румяных братцев своих.
Ну, который постарше, мальчик вроде неглупый. Собран, прилежен. На него, пожалуй, можно положиться. Но младший, бедняга, придурковат. Жаль его! Сам потерянный, он все теряет на ходу. Не уследишь — непременно угодит в выгребную яму. Зато ест за троих взрослых, толстеет.
Пропадут они без Фортуната.
«С чем, старший сын, ты вернешься домой?» — спросил мертвый старик своим отрешенным взглядом. «Не знаю, отец». — «В обозе мало что заработаешь». — «Да, понимаю. Но у нас уже есть кое-что».
Их общие деньги отец хранил в своей сумке на ремне через плечо. Она почему-то развязана. Фортунат запустил в нее руку — и спину его как бы вновь обнесло белым инеем.
Ни одного сестерция, даже асса!
А ведь у них, после трат на питание, снаряжение и прочее, должно было остаться несколько сотен драхм…