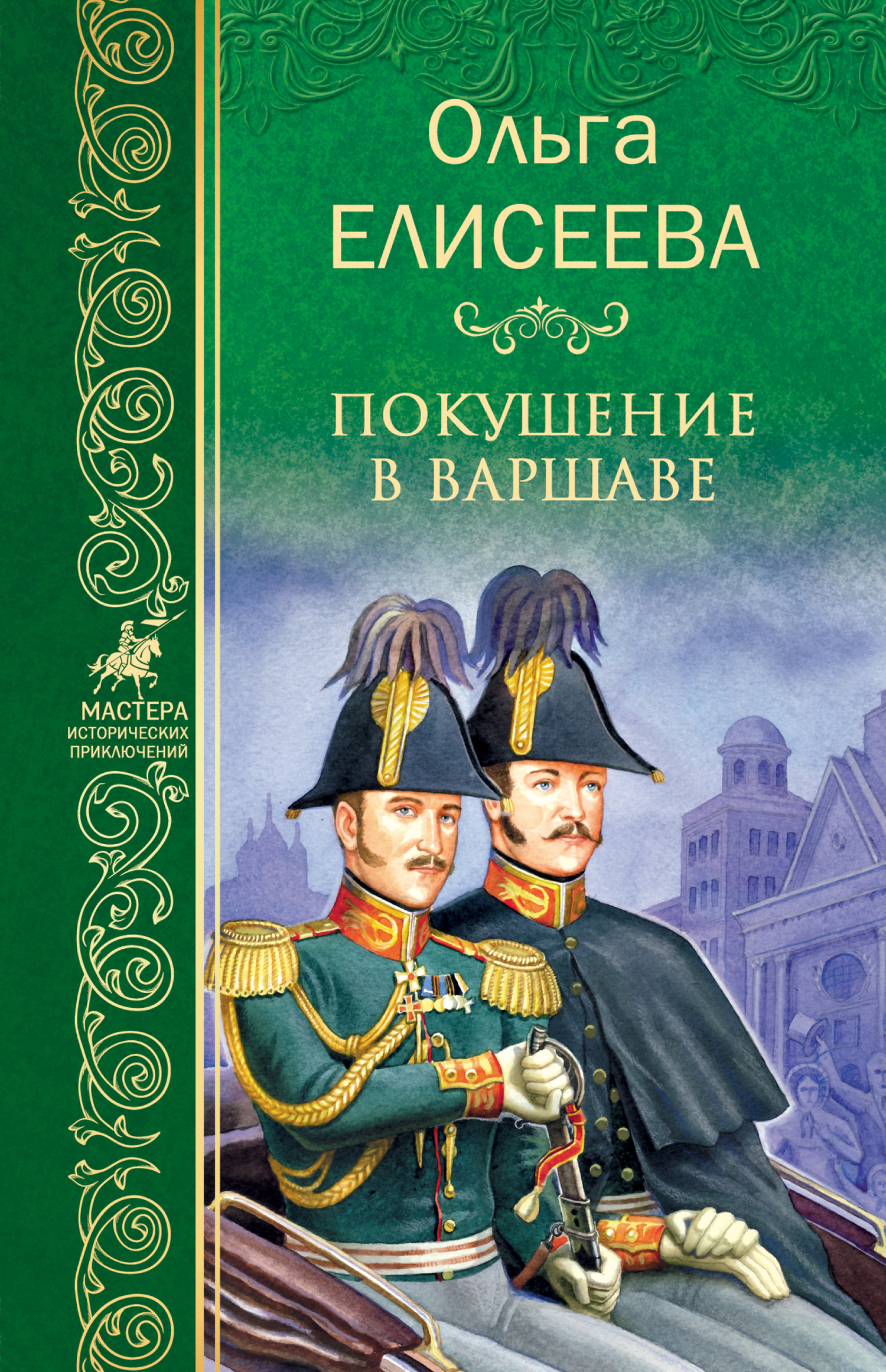прислушалась…
Шарль-Луи взял жену за обе руки.
– Ошибаешься. Она все рассказывает мужу. И ты уже начала оказывать услуги императорской семье. Поздравляю.
– Я просто хотела предупредить…
– Ты делаешь верные шаги, даже если не сознаешь этого, – ободрил муж. – Ты молодец. К тебе будут относиться как к заведомому игроку на «их стороне». Нам стоит остаться на коронацию?
– О нет! – в ужасе воскликнула Дарья Федоровна. – У меня не хватит платьев. А заказывать что-либо в Варшаве я отказываюсь!
– И зачем нам два цесаревича? [57]
Казалось, император начал жаловаться еще в Петербурге и продолжал до Варшавы с перерывами на сон и поломки экипажей. Бенкендорф никогда не видел его таким: взъерошенный, злой, точно сам перед собой оправдывается и сам себе объясняет, почему должен надеть корону Польши, которая принадлежит ему по праву.
– Я обязан решиться хотя бы ради сына. А то выходит, у меня два наследника. Вот потонули бы в прошлом году в шторм [58]. Или отнесло бы нас к турецкому берегу. Или помер бы я, ну бывает же…
Бывает. Но редко. Просто так государи не мрут. Причина нужна. В этом Александр Христофорович был убежден.
– Кто наследует? По всему должен бы сын. Я и регента, случись чего, назначил – брат Михаил [59]. Ему доверяю. Но у Константина-то тоже титул! И его права неоспоримы. Ладно, он мне уступил. Но обязан ли уступать ребенку? Да и сколько таких, кто предпочтет видеть царем взрослого дядьку, а не одиннадцатилетнего мальчика? Я не могу, коснись беда, поставить Сашу в такое положение…
Н-н-да. Ситуация. Никсу не позавидуешь. Вечно под ударом.
– Я оставил все, как есть. Боялся тронуть осиное гнездо. Но нельзя вечно жить в страхе. Точно половина тела парализована.
«Ну, не половина, не преувеличивайте!» Но поживи-ка с мертвой рукой или ногой. И так колодку за собой таскать тяжело. А она еще и тянет из остального тела силы. И деньги. Каждый год на военные игрушки Константина, как барышне на булавки, изволь, подай миллион рублей из казны! Так Ангел повелел. Мы должны платить за нанесенные полякам обиды. К счастью, деньги шли и на обустройство западных губерний: дороги, мосты, городские улицы, освещение… Не в коня корм. Вернее, не своего коня кормим, в этом Бенкендорф был убежден. И если бы только он!
– Я иногда думаю, – цедил Никс, – что брат Александр лелеял Польшу как некий русский Уэльс. Там должен бы сидеть наследник. Набираться опыта. Оазис цивилизации на наших диких равнинах. И на нашей шее. – Царь хмыкнул. – Монарх за годы в Варшаве привыкает и к Конституции, и к правам подданных. А потом несет их в наши леса и болота.
За прошедшие три года отношение Никса к покойному Ангелу стало жестче. Нетерпимее. Навалились нерешенные братом дела. Еще хуже были дела решенные… С возрастом в лице императора стала проглядывать суровость – неподдельная строгость, особенно очевидная в минуты, когда он замолкал и отворачивался к дороге. Тогда его черты застывали маской из еще влажного, несхватившегося гипса. Бенкендорф, быстро взглядывая на него, и видел, как прежде мягкое и растерянное становится твердым, отточенным, непреклонным. «Константин даже и не подозревает, кто к нему едет!» Самодержец. Вовсе не родственник.
Александр Христофорович захотел отвлечь спутника. Сколько можно? Извелся весь.
– Скоро пойдут места, где я в минувшую войну все изъездил верхом вдоль и поперек, – сообщил он. – Покажу и расскажу, где с кем схватывались.
Он знал: Никсу это интересно. Сам не поспев на драку с Бонапартом, тот при хорошем описании переживал, как будто видел и даже участвовал в деле. Давал комментарии: а надо было так, а почему вон оттуда не зашли?
Хороший перерыв в бесконечном «Плаче по Константину».
Не тут-то было! Искомый миллион, которого так не хватало на родном бездорожье, оказался очень недурно употреблен в Польше. Впрочем, не самими поляками, а чиновниками, работавшими для них. Немецкими чиновниками русского подданства.
Зла не хватало. Спутники так друг другу и сказали. Благо в выражениях не стеснялись, а мнения чаще всего совпадали. Зачем? Кого кормить? Завтрашних мятежников? Мечта Ангела о том, будто русские и поляки под единой короной смогут мирно предаваться взаимной любви, – да не будет этого! Слишком много крови пролито.
– Здесь были такие болота и торфяники, что всадник с конем увязал! – бубнил Бенкендорф. – А пески! Прямо от Белостока шли зыбучие дюны. По кромочке приходилось проскакивать. Гиблые места.
Ничего подобного. Широкая мощеная дорога вела до самого Тыкоцина. Шаткий мост и грязная плотина, которые хорошо помнил Шурка, исчезли. Чистенькие дома таращились на улицу, словно умытыми дождем стеклами. В палисадниках тюльпаны поднимали к небу луковичные головки. Дорожки были обсажены каштановыми деревьями, которые тоже, кстати, цвели.
– Боже, – протянул государь, – а у нас…
Дома еле из грязи вылезли. Апрель – время едва наметившихся дорог. Хорошо, если избы топятся по белому. Но сколько таких, у которых дым валит и в двери, и в заволоки!
– Я предпочитаю черные, – ободрил императора спутник. – Клопов меньше. Опять же прилипчивых болезней нет, блохи дохнут, люди живут.
Оба заржали с грустью и пониманием. Дым – штука здоровая, обеззараживает даже чуму. Дети – которые выжили, конечно, – оспы не боятся, не привьешь, организм отторгает. Но хочется-то чистоты, красоты и улыбок. Вон, лавочница рукой машет проезжающим. И не знает, что царь катит, – просто так, от полноты жизни. Теперь он понимал Александра, желавшего царствовать в таком миленьком благоустроенном королевстве!
А наши? Вылезут лохматые из-под застрехи. Смотрят, насупятся, не говорят – мычат что-то невразумительное. Медведи!
Если бы государь стал ругаться или морщиться, как временами делал его покойный брат, Шурка бы ответил, не стерпел. Но Никс и сам был из другого теста. Он только кряхтел, поглубже накидывал на себя шинель, втягивал голову в плечи и неодобрительно смотрел вокруг. Ишь, разжились на наши деньги!
Ночевали в Пултуске. Сюда прибыл поезд императрицы. Далее предстояло следовать вместе. Более медленно и торжественно. Поэтому к следующему вечеру вереница карет остановилась в имении Яблонна Йолли, чтобы на другой день вступить в Варшаву.
Когда-то поместье принадлежало князю Юзефе Понятовскому [60], несостоявшемуся польскому королю, маршалу Бонапарта, который перед смертью подарил его храброй Анне Потоцкой, ныне графине Вонсович.
Анна отличилась. Бенкендорф с удивлением смотрел на высоченную статую наполеоновского героя, украшавшую главную аллею парка и как бы встречавшую императорскую чету. Подавляюще огромный, как не полагается быть побежденному. Бедная императрица Александра Федоровна с опаской косилась на каменного гиганта. Надгробье командора!
– Приходи ко мне нынче ужинать! – сквозь зубы бросил Никс.
Бенкендорф представил, как утонувший под Лейпцигом в Эльстере маршал, явившись из ада, начнет за столом давиться стылой мутной водой. И его замутило.
Гостевой дом в виде большой шахматной фигуры, готические ворота красного щербатого кирпича, тихая Влтава внизу, сад в цвету… Все бы хорошо, да только русские испытывали неловкость в этом пантеоне вечной славы павшим героям неприятеля. Лучевые просеки вели к павильону-храму, где хранились старые изорванные знамена – реликвии похода на Смоленск и Москву. Сабли польских королей. Все, что Потоцкая собрала, устроив алтарь для поклонения – места скорби и гнева, слез и закушенных до крови губ.
«Яна [61] во всей красе!» – с досадой думал Александр Христофорович, знававший хозяйку в молодые годы.
Но как раз самой-то