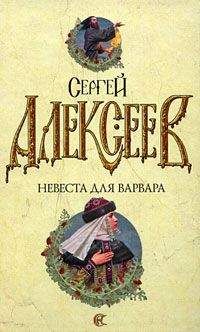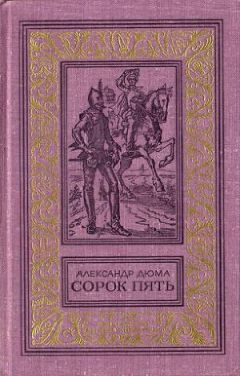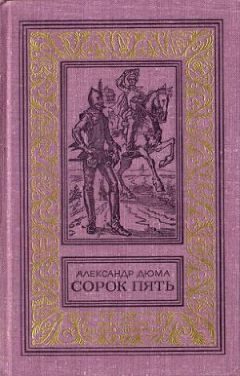— Ну, я атаман!
— Садись один в лодку и подчаливай. Да топор оставь. Он в лодку сел, весло взял, однако не стерпел, вдохновил своих:
— Ну, робята, ныне добро погуляем! Причалился к борту, без веревки, в один рывок подтянулся за борт и вот уж на палубе стоит.
— Веди, показывай!
Образом он походил более на разъяренного быка, нежели на человека: клочковатая красная борода, раздутые и словно вывернутые наизнанку ноздри, гневные, красные же немигающие и маленькие глаза с зеницами, кои казались отчего-то по-кошачьи узкими. И словно дым от них исходил от незримого внутреннего холодного тления.
Капитан оставил на палубе Данилу Лефорта, а сам взял фонарь и с атаманом да двумя нижними чинами, капралом Вороной и сержантом Булыгой, в носовой трум спустился.
А там что — бочки с водкой и порохом, кипы табака до по-толка и яшики с винтовками. Разбойник же опытный, глаз навостренный, сразу все увидел, но и рта раскрыть не успел: Пронка Ворона ему ремешок на шею набросил, концы на кулак намотал, а рослый Селиван Булыга под коленки его и мордой в пол. Они лазутчиками служили, посему в пыточном деле толк знали.
Ивашка присел на корточки и спрашивает:
— Теперь сказывай, кто наустил наш коч пограбить? Атаман хрипел, царапал руками горло, пытаясь сбросить удавку, — побагровел и глаза выкатываются.
— Отпусти… подобру… Спалим!..
— Кто наустил на дело разбойное? Пронка подтянул ремешок.
— Всех спалим… утопим!
— В мешок бы его, — сказал Булыга. — И с кормы за борт. Нехай водицы испьет.
— Давай, — согласился Головин.
Селиван вытряхнул из мешка смоленую паклю, вдвоем с Пронкой они связали атаману руки и принялись заталкивать в широкий посконный куль. Разбойник отдышался и теперь отчаянно сопротивлялся, но сладить с двумя молодцами оказалось не под силу: Брюс подбирал людей не только по уму. Когда атаман очутился в мешке, нижние чины подхватили его, хорошенько встряхнули, дабы уплотнить и завязать, — разбойник при этом стукнулся головой об пол и взмолился:
— Братцы, не губите! Вы же, чай, православные!
— Кто послал грабить? — спросил капитан.
— Нужда и страсть к зелью, — забухтел атаман из мешка. — Водку давно выпили, табак еще в Великий пост скурили. Мох смолим да репей… По всей Сухоне и Двине шаром покати! А время-то — распутье…
— Откуда узнали, что на коче товар имеется?
— Откуда? — замешкался тот. — Дак знамо дело — в Сибирь чалите…
— Кто сказал про Сибирь?
— Сами догадались.
— За борт сего догадливого!
— Становой сказал! Из Тотьмы коч снарядили, водки, табаку, пороху изрядно. Мол, половодные реки сноровисты, может льдом раздавить, а то на карчу* налетит и затонет. Столько добра пропадет даром…
— А он откуда узнал?
— Сие мне неведомо! У него и спроси!
Должно быть, становой получил указание воеводы и уж отписку заготовил, при каких обстоятельствах Брюсов коч затонул вкупе с людьми и товаром…
— Снимите с него мешок, — распорядился Головин.
Пронка с Селиваном выпростали атамана на пол, но рук не развязали. Он вскочил на ноги, отряхнулся от налипшей пакли, словно собака.
— Знать бы Где упасть, так ни в жисть…
— Ты кто таков будешь-то?
— Да кто я?.. Начальник артели, сволочи мы, на печорском как раз и промышляем. А в Котласе зимуем…
— С какой стати становой тебе государевы тайны доверяет?
Атаман уже был сломлен, посему стал откровенным и гнусным.
— Дело-то житейское, обыденное… Бывает, мы ему подсобим, кого на тот свет спровадить, беглого словить или что еще. Ну, а он к нам благоволит. Должно, узрел, как мы маемся без вина и курева, пожалел…
Подозрения оправдывались, но в тот миг Головин вдруг подумал, насколько предусмотрительным был Тренка, взявший сволочей на Юге-реке. Эти бы встретили на печорском волоке, однажды ночью всех перерезали и получили в награду коч с товаром…
Из сего следовало, что Екатерина отреклась от волеизъявления мужа своего, государя императора, не признала его распоряжений относительно югагиров и, по сути, объявила войну Брюсу и ему, Головину. А коли так, то теперь грамота Петра Алексеевича не поможет и весь путь до Индигирки придется идти сквозь засады и заслоны. Ивашке от таких мыслей тоскливо сделалось, и вместе с тем взыграла в сердце ярость супротив графа: что же он, будучи ныне в Петербурге, не в состоянии их защитить от дурного гнева государыни? Не может убедить ее, что сие предприятие — не его, Брюса, прихоть и не Головина затея, а прежде всего радение о государстве Российском и безопасности престола?
На палубе послышались громкие голоса, отвлекшие от тяжких мыслей. Оказалось, печорские сволочи требуют ответа своего атамана, дескать, пусть явится и скажет. Ивашка вынул пистоль и приставил его к груди разбойника.
— В сей час выйдем на палубу, и ты скажешь: водки и табаку нету. Пускай домой идут. А ты на коче останешься, покуда в Вычегду не войдем.
Артельный начальник глянул на бочки, подумал.
— Надей водки, дак скажу.
Головиным овладело омерзение, однако он сам налил разбойнику и поднес:
— Пей!
Тот жадно осушил чарку, еще раз по-собачьи встряхнулся и стал походить на человека — даже продольные бычьи складки на челе разгладились и между волосами и бровями образовалась полоска шириною в три пальца…
Тем временем Брюс тоже не сидел сложа руки.
По прибытии в Петербург он первым делом расспросил жену, Марию Андреевну, выслушал от нее все сплетни, слухи и предположения, бытовавшие при дворе, а также ее упреки и опасения — мол, он, граф, арестован будет, как только явится во дворец. Будто бы герцогиня Анна Курляндская призналась императрице, что своими глазами видела записку покойного императора Петра Алексеевича, его рукою писанную, а там давнее пророчество некоего Тренки, дескать, ежели царь сына своего первородного, Алексея, не помилует и впоследствии престол ему не оставит, то князь югагирский, Оскол Распута, весь род его изведет. Будто бы государь ей показал сию бумагу и тут же от свечи припалил и сжег, сказав при сем: «Вот и нет более пророчества!» И теперь, ежели граф Брюс способствует сему князьку — невесту высватал и отослал с Головиным на Индигирку, — то сие деяние суть измена. Будто бы государыня возмутилась невероятно, велела сыск произвести, а графа заключить под домашний арест.
Невзирая на это, граф, только платье сменив, в тот же час поехал к ее величеству. Напустив на себя вид виноватый, покаянный и одновременно независимый — все Брюсы умели это делать и потому так долго служили русским государям, — он явился во дворец и под напряженный шепоток в спину прошел коридорами в сени — приемную государыни. Однако впервые его способности не помогли, и, если при Петре Алексеевиче он мог входить без доклада и прочих церемоний, причем в любое время дня и ночи, то на сей раз дорогу в царские палаты преградил молодой, совсем незнакомый офицер: