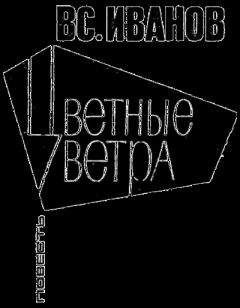Оловянный у старухи глаз, бельмовый, наводит его на роженицу.
— Кричи швырче — пройдет!… Я как рожала-то, чуть потолок криком не разорвала. Кричи!
Вышел ребенок. Будто перенявши у матери крик, полетел им по комнатам, криком тонким и белым:
— Ы-ы-и-и-и!…
— Уйди, Листрат, на двор пойди, передохни. А как в грудях заноет — приди. Исстари так!
Юбка у Терентьевны как стог, а голос — травинка.
— Крепка у те баба-то, будто блин съесть, родила.
В воротах мечется зеленый тулуп, шапка под тулупом высокая — колокольня. А голос двери шевелит:
— К тебе, ча-адо, Калистра-ат Ефимыч!… Грехами и муками!…
Пробил тулупом сугроб в воротах, рукавами трясет.
— Страданьями и наказаньями в логово разбойничье принесло меня!
Растет из воротника зеленый попов волос, сел на приступочку, вздохнул:
— Аки сына блудного в дом не пускаешь?
— Баба рожает, отец Сидор.
Запахнул поп Исидор тулуп, снег стряхнул.
— Тогда сам не пойду!… Талицу-то спалили, слышал?
— Знаю. Семена не видал?
— Не видал, чадо. Може, убили, а може, сам убился. Мне-то куда? Церковь сожгли, ульи у меня сгорели… Думал, на заимке-то ограбят, домой привез… Мед-то горел — за-апах… чистс поляна…
— Все сгорело?
— Как бумага, и золы нету. В город мне бежать нельзя.
— А ты беги.
— Скажут — беженец. Деревенски мужики поймают, повесят. У вас тут места не найдется?
— Живи.
— Не служите?
— Чево?
— Обедню, скажем, вечерю. Аль требы каки?
— Не надо.
— Ну-у!… Поди, и дите крестить не будешь?
— Буду.
— Закон!… А жалованье как? Не полагается, поди, уставов нету… А я на доходах могу!…
— Живи.
— А как церкви думаете строить? Поди, так и отменят стройки. Стары-то сгорят…
Ходил поп Исидор по заимке день и два.
Гнали табуны, пойманные на еланях. Шел скот худой, одичалый, на людей смотрел как на волков. А погонщики были тоже тощие, как волки весной.
Крестился под тулупом поп Исидор, прижимался к амбарам и был весь точно копна старого мха.
Уходил в землянку, зажигал жирницу и читал, не глядя в листы, требник. Голос у него был как у поднявшегося роя пчел.
А волости требовали людей из штаба. Никитин словно прирос к столу, и, глядя на него, казалось восстание — ворохом бумаг, поднятых ветром.
— Поезжай, — говорил он Калистрату Ефимычу. — Я здесь. Я вижу…
Неслась оснеженными полями алая ковровая кошева.
От темных изб не отчищали снега — чтоб не заметно поселков. И были поселки как сугробы, а дороги как звериные тропы.
Спал в логовах медведь, спали горы. В избах — сонные, мягкие лица.
Много было в этом году ребят, и все ребятишки не были такими, как Васька, Листратов Васька.
А Васька, мигая теплым личиком, похожим на розовую каплю, сосал большие и круглые груди.
И небо сосало из белой зимней груди голубой дым. Говорил попу Исидору Калистрат Ефимыч:
— Оглянуться некогда, несет, как лист в бурю. Густо овчинами вздыхал поп:
— Куда бы мне уйти, чтоб пчел водить можно было?…
С бубенцами пронесся рыжебородый Наумыч. Вбежал в присутствие — борода плавит снег, глаза плавят куржак на бровях.
— Листрат Ефимыч, сына твово Семена пымали с белыми.
— Иде?
— Под Воробьевской в роте ефрейтовал. Как есь весь наш отряд постановил — убили твово сына, Мит-рия, кончили, назначить в вознаграждеиве Семена командером своднова отряда.
— Ну и ладно!
— Надо тебе ево?
— Семена-то? Не надо, — ответил Калистрат Ефимыч.
Сел в кошеву Калистрат Ефимыч, взглянул на солнце — молодое, играет.
Идут селом обозы, а людей в обозах не видно. Пригляделся — лежат в санях, будто все время от пуль берегутся.
— Куда?
— На спокойную землю. Захохотал рыжебородый.
— Коней загоните, не найдете!
Молчат сани. Скрипит на полозьях молодое солнце. Темно-синие проруби чистит пешней киргиз. Пахнет дорогой, назьмами.
Сказал Калистрат Ефимыч:
— Зима-то какова? а?…
Расстегнул шубу Наумыч, трубку достал. Кони несут, довольные.
— Зима чешет почем зря! Однако белых утурили мы далеко. Поди, как март идет, — месяца-то, бают, отменены…
Обогнала кошева обозы, идущие на спокойную землю. Лежали в санях люди, похожие на трупы, а ребра у лошадей торчали в шерсти, как прутья.
Розоватые и теплые, как тело ребенка, лежали снега.
Горевала у люльки Настасья Максимовна:
— Докудова жить-то тут будем?… Сердце — и то все в золе! Не шевельнуться, не повернуться… только и знают — народ бить.
— Обожди.
Разбросил свивальники Васька, бьется в люльке, кверху ползет.
Смотрел на него Калистрат Ефимыч, долго смотрел. Вышел на крыльцо.
Сутулый парень с ведром клейстера лепил на амбар бумаги.
— Чево ты? — спросил Калчстрат Ефимыч.
Парень поставил ведро и, обтирая руки о валенки, торопливо ответил:
— Муки полно ведро завел, а приказы лепить некуда… На кедры, что ли, в тайгу?
— На спокойную землю.
Остановил проходивший обоз и лепил приказы на сундуки. Мужики тоскливо глядели на парня и, отъехав за амбар, соскабливали кнутовищем бумагу.
“По приказу ревштаба… первой армии… мобилизация…”
Пощупал мокрый лоб Калистрат Ефимыч, шапку на затылок передвинул.
— Теплынь!
Хрупко ржали на пригонах лошади.
Таяли снега, таяли. Рождалась розовая земля. Телесного цвета, пухлые, как младенцы, бежали на облака горы.
Уходил в леса Калистрат Ефимыч. Искали его штабники — не находили. А нарочные привозили бумаги. Востроносый, как в гагьём гнезде, сидел за столом Никитин.
Сухое, как береста, сердце Калистрата Ефимыча. Сухое и жмется от дум, как береста от жары… Ноет душа, по лесам бредет.
Встретил рыжебородого Наумыча на опушке. Махал топором, как рукавицами, по деревьям зарубы.
— Куда, на каки дела?
Засунул топор за опояску. Бороду широкую, острую, как топор, — за ворот.
— Выбираю, Ефимыч, сутунки под новую избу… Намечаю. Спалено все.
— Спалено!… — отозвался глухо Калистрат Ефп-мыч.
А дальше — запружали мужики горную речушку Борель. Незамерзающая она, девственница. Наваливают поперек камни, хлещет холодная волна.
Кричат мужики:
— Помогай, Ефимыч!
— Запрудим да пустим!… Лети!…
Рассказывает Наумыч, пальцем по топору звенит:
— Мается люд. Для блезиру хоть пруд гонит. Душа мутится с войны. Робить…
Сосны одни да Калистрат Ефимыч с ними. Кричат над тайгой птицы, с юга возвращаются.
Отзываются, свистят им сосны. Тающей таежной прелью пышет. И как осиновая кора — бледно-зеленое небо гнется…