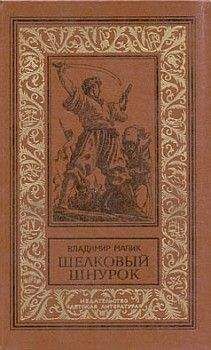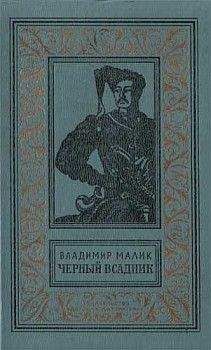Но в то же время они и отличаются от смеречовских крестьян. У запорожцев смелый, гордый взгляд, которого Яцько никогда не видел у односельчан. У каждого сабля на боку, пистолет, а то и два за поясом. А на головах овечьи, лисьи или заячьи шапки с малиновыми, свисающими шлычками… Нет, они совсем не такие, как на родной его Гуцульщине!
Потом его взгляд пробежал по длинным приземистым хатам-куреням, почти вплотную прижавшимся к крепостным стенам. Камышовые крыши припорошены мелким снежком. Под ними темнеют узкие, словно бойницы, оконца. Дома войсковой канцелярии и старшин выше, красивее, крытые гонтом[3]. На другой стороне площади радует взор крашеными стенами и золочёными куполами сечевая церковь.
Заметив, что казаки обратили на него внимание, мальчонка поспешно сдёрнул шапку, поклонился и хрипло произнёс:
— Добрый день, панове казаки!
— Здоров, парень! — ответил за всех Метелица. — Да не зови нас так, какие паны из нас, голодранцев… А паны — там, — кивнул он на дома сечевых старшин. — Понял?
— Понял.
— Правда, кое-кто и из нашего брата прётся в паны. Ну, да это не твоего ума дело… А теперь выкладывай, откуда сам будешь. Где с Сомом повстречался?
— Все, все, что спросите, расскажу… Сперва вот мне бы Арсена Звенигору найти.
Казаки удивлённо переглянулись:
— Эге, у Звенигоры, вишь, и родич объявился! Да ты-то сам разве его не знаешь, нашего Звенигору? Он здесь, между нами…
— Нет, не знаю… Надо ему кое-что передать…
Звенигора вышел вперёд. Царапину на руке он успел залить горилкой и присыпать порохом. Поверх надетого уже жупана на нем был внакидку наброшен кожух, украшенный красивой вышивкой. И жупан и кожух во многих местах залатаны, — не у одного хозяина, знать, побывать успели, пока к казаку попали.
— Что ж ты хотел передать мне, хлопче? — спросил он недоуменно.
— Я из Дубовой Балки, я…
— Ты из Дубовой Балки? — подался вперёд Звенигора.
Сердце у него ёкнуло: там, на берегу Сулы, вот уже третий год живут без него родные — мать, сестра, дед. Не случилось ли с ними чего? Не несчастье какое? Он сжал пареньку плечо.
— Мои с тобой передали что? Как мать?
— Мать захворала. Передали, чтобы прибыл как можно скорее…
— Что с нею? Ты видел её?
— Нет, не видел. Сестра твоя сказывала, когда мы с дедом Сомом у них ночевали.
— Так ты сам, выходит, не из Дубовой Балки?
— Нет, дядя, из Карпат я… Может, знаешь — из Смеречовки… От пана Верещака убежал… Не слыхал?.. Злющий, аспид!.. Над бедными холопами издевается, как над скотиной!.. А нынче думаю казаковать, если примете…
Но Звенигора уже не слушал парня. Лицо его опечалилось, серые глаза потемнели. Мысленно перенёсся в Дубовую Балку. Заглянул в маленькую хатку-мазанку у рощи, склонился над простого дерева кроватью, которую сам смастерил, припал к изголовью матери… Старался представить, какая она теперь… Должно быть, бледная, с мелкими морщинками под глазами, густые волосы рано покрылись белой изморозью седины… Что за лихоманка привязалась к ней? Или тоска по мужу, отцу Арсена, иссушила её сердце? Застанет ли её живой? Имел бы коня, дня за три-четыре доскакать можно!..
— Бывайте здоровы, други! Не поминайте лихом! До встречи! — Он поворачивался во все стороны и отвешивал поклоны захмелевшим казакам.
Щеголеватый Секач, увидев латки на кожухе и жупане товарища, крикнул:
— Погоди, Арсен! Скидывай к чёртовой матери свои лохмотья! Негоже казаку оборванцем из Сечи ехать! Да разве кошевое товариство не может снарядить тебя как следует? Вот на, держи!
Он быстро сбросил с себя тонкий синий жупан из венгерского сукна и серую смушковую шапку-решетиловку[4].
— Теперь не стыдно и под венец! — с удовлетворением осмотрел он товарища, натягивая на себя его поношенную одежду. А завидев Товкача, который, ничего не ведая, приближался к ним, громко крикнул: — И первому же, кто посмеет обозвать запорожца горемыкой или бедняком, заткни глотку сабелькой Товкача!
Красноречивый жест в сторону дорогой Товкачовой сабли, сверкавшей на солнце драгоценными камнями, и прозрачный намёк, чтобы тот подарил эту саблю другу, вызвали среди казаков смех. Все знали пристрастие Товкача к дорогому оружию. Сам он был, пожалуй, одним из беднейших среди товарищества, ходил в лохмотьях, зато имел богатейшую саблю. Такой даже у кошевого не было.
Товкач захлопал чёрными воловьими ресницами, однако потихоньку стал отстёгивать от пояса саблю. Нижняя губа у него задрожала.
— Я с радостью… Чего ж… Бери, Арсен! — бубнил он. — Нешто пожалею для друга?..
Все видели, что ему все-таки жалко расставаться с саблей, и потешались над плохо скрытым огорчением казака. Метелица весь трясся от смеха и тяжёлыми кулаками вытирал слезы. Его толстые мясистые щеки мелко дрожали, а белая мохнатая шапка чуть не падала с головы.
— Ох-хо-хо! Сегодня ночью нашего Товкачика блохи закусают! С досады не заснёт до утра!.. Брось тужить, парень, ещё подвернётся под твою руку какой-нибудь татарский мурза — и снова заимеешь такую же игрушку!
А Звенигоре сказал:
— А от меня, Арсен, трубку получай и кисет! Кури на здоровье!
— Спасибо, батько! Спасибо, друзья! — благодарил растроганный Звенигора.
В этот миг на крыльце войсковой канцелярии появился джура[5] кошевого.
— Звенигора! — крикнул он — Звенигора-а!
— Чего тебе? — ответил казак, одёргивая на себе новый кожух.
— Давай живей до кошевого! Не мешкай!..
Звенигора удивлённо посмотрел на товарищей, как бы спрашивая, что там стряслось, но никто ничего не знал.
3
— Бью тебе челом, славный кошевой атаман Иван Серко! — торжественно поздоровался и низко поклонился кобзарь, когда Товкач ввёл его в большую, хорошо прибранную комнату войсковой канцелярии и шепнул, что перед ним — сам атаман. — У меня к тебе дело спешное… Неотложное и секретное…
Серко подал знак Товкачу, чтобы вышел, а сам встал из-за стола и сказал:
— Я здесь один, кобзарь… Садись, говори…
Он взял старика за руку и подвёл к широкой скамье, покрытой пушистым ковром. Пока кобзарь садился, кошевой отступил назад и опёрся рукой о стол.
Это был высокий дюжий казак лет под шестьдесят. Хорошо выбритое лицо с мощным крутым подбородком и прямым носом пышет здоровьем. Из-под изогнутых косматых бровей внимательно смотрят пытливые глаза. Одёжда Серко говорила о том, что казак заботится не так о красоте, как об удобстве. Широкие шаровары пурпурного цвета, заправленные в мягкие сафьяновые сапоги, и белый жупан фризского[6] сукна — вот и вся одежда. На левом боку висит дорогая сабля.
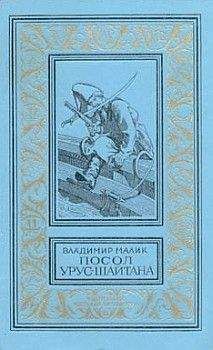
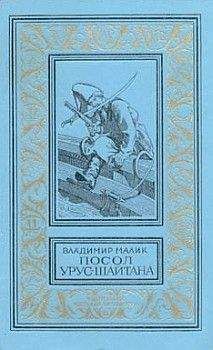
![Владимир Малик - Посол Урус-Шайтана [Невольник]](https://cdn.my-library.info/books/10079/10079.jpg)