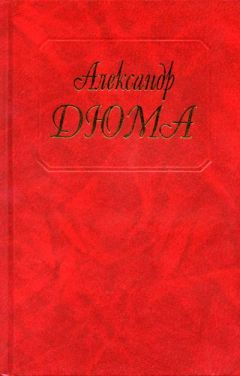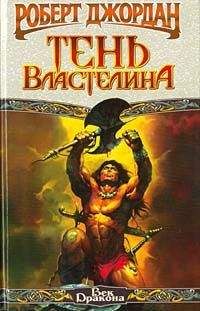Вельможи и рыцари словно остолбенели: все молчали, никто не знал, что делать. Герцог Беррийский дружелюбно пожал Карлу руку и попытался с ним заговорить, но король не отвечал ни словом, ни жестом. Тогда герцог покачал головою и сказал:
— Придется, господа, возвращаться в Ле Ман, поход наш на этом закончен.
Из опасения, как бы с королем вновь не случился приступ безумия, его связали, положили на носилки, и, удрученные, все направились обратно в город Ле Ман, куда, как и предсказывал герцог Беррийский, вернулись тем же вечером.
Сразу вызвали лекарей. Одни из них полагали, что король был отравлен еще до выезда из Ле Мана, другие же искали сверхъестественную причину его болезни и утверждали, что на него напустили порчу. В обоих случаях подозрения пали на принцев, и потому они потребовали, чтобы ученые медики произвели тщательное исследование. Тогда спросили тех, кто прислуживал Карлу во время обеда, много ли тот ел. Оказалось, что он едва прикоснулся к кушаньям, был задумчив, все только вздыхал, время от времени сжимал руками виски, словно у него болела голова. Был вызван главный мундшенк Робер де Тек, чтобы выяснить, кто из виночерпиев последним подавал королю вино; оказалось, это был Гелион де Линьяк; за ним тотчас послали и спросили, где он брал вино, которое король пил перед отъездом. Тот ответил, что ничего не знает, но что они вместе с главным мундшенком это вино пробовали. Подойдя к шкафу, он принес бутылку, в которой осталось еще довольно напитка, налил стакан и выпил. Как раз в это время от короля возвращался врач и, услышав этот разговор, обратился к принцам:
— Ваши высочества, напрасно вы хлопочете и спорите: тут нет ни отравления, ни порчи. У короля горячка, Карл сошел с ума!
Герцог Бургундский и герцог Беррийский переглянулись: если король действительно сошел с ума, регентство по праву принадлежало либо герцогу Орлеанскому, либо им. Но герцог Орлеанский был еще слишком молод, чтобы Совет возложил на него столь важное дело.
Тут герцог Бургундский нарушил молчание и обратился к двум другим герцогам.
— Любезный брат и вы, любезный племянник, — сказал он им, — я думаю, что нам надобно поскорее вернуться в Париж, ибо там легче будет лечить короля и ухаживать за ним, чем здесь, в походе, вдали от дома. А уж Совет решит, в чьи руки передать регентство.
— Я согласен, — ответил герцог Беррийский. — Но куда нам его везти?
— Только не в Париж, — встрепенулся герцог Орлеанский. — Королева беременна, и такое зрелище могло бы причинить ей вред.
Герцоги Бургундский и Беррийский обменялись улыбками.
— Ну что ж, — заметил последний, — тогда остается везти его в замок Крей: воздух там хороший, чудесный вид, река поблизости. Касательно королевы наш племянник герцог Орлеанский говорил справедливо, и, если он хочет поехать раньше и подготовить ее к печальной вести, мы останемся еще дня на два подле короля и позаботимся, чтобы он ни в чем не испытывал нужды, а потом и сами вернемся в Париж.
— Пусть будет так, как вы говорите, — согласился герцог Орлеанский и пошел отдавать распоряжения к отъезду.
Оставшись вдвоем, герцоги Беррийский и Бургундский отошли под свод оконной ниши, чтобы без помех поговорить друг с другом.
— Что вы обо всем этом думаете, кузен? — спросил герцог Бургундский.
— То же, что думал прежде: король прислушивался к голосу чересчур неискушенных советчиков, и бретонский поход не мог окончиться благополучно. Но с нами не пожелали считаться: верховодит-то теперь упрямство, прихоть, а не здравый рассудок…
— Все это надо будет поправить, да побыстрее, — сказал герцог Бургундский. — Нет сомнения, что регентство достанется нам с вами. Ведь племянник наш, герцог Орлеанский, так занят, что не пожелает принять правление в свои руки. Вы помните, что я вам говорил, когда в Монпелье король дал нам отставку? Я сказал, что мы с вами самые могущественные вельможи королевства, и пока мы вместе, сильнее нас нет никого. Настало время — и все теперь в нашей власти.
— Поскольку польза королевства сообразуется с нашей собственной пользой, любезный брат, надо отстранить от дел наших недругов. Ведь они постараются воспрепятствовать всем нашим намерениям, будут мешать всем нашим планам. Если мы будем тянуть в одну сторону, а они в другую, королевству придется нелегко: чтобы дело шло на лад, голова и руки должны быть в согласии. Вы думаете, коннетабль охотно станет подчиняться приказаниям, которые получит от нас? В случае войны несогласие могло бы причинить Франции огромный вред. Меч коннетабля должен быть в правой руке правителей.
— Совершенно справедливо, кузен, однако есть люди, столь же опасные в мирное время, как был бы опасен коннетабль во время войны. Я говорю о Ла Ривьере, Монтегю, Бэг-де-Виллене и прочих.
— Да-да, людей, толкнувших короля к совершению стольких ошибок, необходимо будет устранить.
— Однако не станет ли их поддерживать герцог Орлеанский?
— Вы не могли не заметить, — сказал герцог Беррийский, оглянувшись по сторонам и понизив голос, — что наш племянник занят теперь своими любовными делами. Не будем ему мешать, и он нам перечить не станет!
— Тише, он здесь!.. — перебил его герцог Бургундский.
Действительно, торопясь в Париж, как и полагали оба его дяди, герцог Орлеанский пожелал с ними проститься. Все вместе они вошли в комнату короля; и, справившись у камердинеров, спал ли Карл, узнали, что не спал и все время метался. Герцог Бургундский сокрушенно покачал головой.
— Да, скверные новости, любезный племянник, — обратился он к герцогу Орлеанскому.
— Да хранит Господь его величество, — отвечал герцог.
Он подошел к постели короля и спросил, как тот себя чувствует. Больной ничего не ответил; он дрожал всем телом, волосы его были взъерошены, глаза глядели неподвижно, по лицу струился холодный пот; то и дело он вскакивал на своем ложе и кричал: «Смерть, смерть изменникам!»; потом, обессиленный, снова падал на постель, пока новый приступ горячки не поднимал его на постели.
— Нам здесь делать нечего, — сказал герцог Бургундский, — мы только утомляем его, помочь же ничем не можем. Сейчас ему куда нужнее врачи, чем дяди и брат. Право, нам лучше уйти.
Оставшись наедине с королем, герцог Орлеанский склонился над постелью брата, заключил Карла в объятия и с грустью посмотрел на него; слезы навернулись ему на глаза и тихо покатились по щекам. Да и было отчего: несчастный безумец, распростертый перед ним на постели, нежно его любил, и, возможно, герцог упрекал себя в том, что за эту чистую, святую дружбу он платил изменой и неблагодарностью; расставаясь с братом, он вглядывался в свою душу и с горечью сознавал, что после того, как прошло первое потрясение, он вовсе не так уж и сильно был опечален его болезнью, как ему следовало бы. Ибо если дурное в нашей душе побеждает хорошее, в невзгодах других мы всегда стараемся найти выгодную для себя сторону, в чужих горестях ищем источник нашего собственного удовольствия и благополучия; чувства наши при этом притупляются, сердце черствеет, пелена слез, застилавшая наш взор, понемногу спадает, и будущее, казавшееся омраченным навеки, начинает вдруг улыбаться нам одним из своих бесчисленных ликов; доброе и злое начала еще какое-то время борются друг с другом, и чаще всего в наших грешных душах побеждает Ариман, так что порою с еще влажными от слез глазами, но уже с облегченным сердцем мы на другой день вроде бы даже и не сожалеем о случившемся несчастье: так эгоизм человеческий врачует душевные раны.