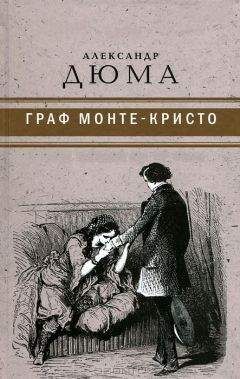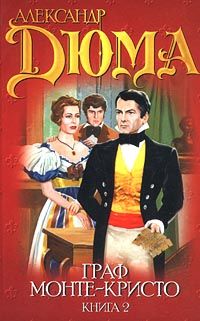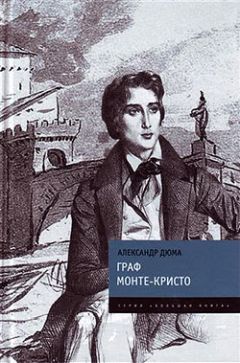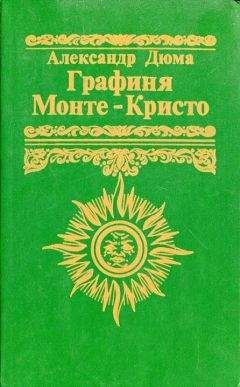Газеты сообщали немало подробностей о его парижской жизни и о его жизни на каторге; все это возбуждало живейшее любопытство, особенно среди тех, кто лично знал князя Андреа Кавальканти, все они были готовы пойти на все, лишь бы увидеть на скамье подсудимых господина Бенедетто, убийцу своего товарища по каторге.
Для многих Бенедетто был если не жертвой правосудия, то, во всяком случае, жертвой судебной ошибки; г-на Кавальканти-отца знали в Париже, и все были уверены, что он появится и выручит из беды своего славного отпрыска. На многих, никогда не слышавших о пресловутой венгерке, в которой он предстал перед графом Монте-Кристо, произвели немалое впечатление величавая внешность, рыцарский облик и светское обращение старого патриция, который, надо сознаться, в самом деле имел вид истого вельможи, пока он молчал и не вдавался в арифметические вычисления.
Что касается самого подсудимого, то многие помнили его таким любезным, красивым и щедрым, что они предпочитали видеть во всем случившемся козни какого-нибудь врага, как это иной раз и случается в мире, где богатство дает власть творить добро и зло и наделяет людей поистине неслыханным могуществом.
Итак, все стремились попасть на заседание суда: одни – чтобы насладиться зрелищем, другие – чтобы потолковать о нем. С семи часов утра у дверей собралась толпа, и за час до начала заседания зала суда была уже переполнена избранной публикой.
В дни громких процессов, до выхода судей, а нередко даже и после этого, зала суда весьма напоминает гостиную, где сошлись знакомые, которые то подходят друг к другу, если не боятся, что займут их места, то обмениваются знаками, если их разделяет слишком много зрителей, адвокатов и жандармов.
Стоял один из тех чудесных осенних дней, которые вознаграждают нас за дождливое и слишком короткое лето; тучи, которые утром заслоняли солнце, рассеялись как по волшебству, и теплые лучи озаряли один из последних, один из самых ясных дней сентября.
Бошан – король прессы, для которого всюду готов престол, – лорнировал публику. Он заметил Шато-Рено и Дебрэ, которые только что заручились расположением полицейского и убедили его стать позади них, вместо того чтобы заслонять их, как он был вправе сделать. Достойный блюститель порядка чутьем угадал секретаря министра и миллионера; он выказал по отношению к своим знатным соседям большую предупредительность и даже разрешил им пойти поболтать с Бошаном, обещая посторожить их места.
– И вы пришли повидаться с нашим другом? – сказал Бошан.
– Ну как же! – отвечал Дебрэ. – Наш милейший князь! Черт возьми, вот они какие, итальянские князья!
– Человек, чьей генеалогией занимался сам Данте, чей род восходит к «Божественной комедии»!
– Висельная аристократия, – флегматично заметил Шато-Рено.
– Вы думаете, он будет осужден? – спросил Дебрэ Бошана.
– Мне кажется, это у вас надо спросить, – ответил журналист, – вам лучше знать, какое настроение у суда; видели вы председателя на последнем приеме министра?
– Видел.
– Что же он вам сказал?
– Вы удивитесь.
– Так говорите скорее; я так давно не удивлялся.
– Он мне сказал, что Бенедетто, которого считают чудом ловкости, титаном коварства, просто-напросто мелкий жулик, весьма недалекий и совершенно недостойный тех исследований, которые после его смерти будут произведены над его френологическими шишками.
– А он довольно сносно разыгрывал князя, – заметил Бошан.
– Только на ваш взгляд, Бошан, потому что вы ненавидите бедных князей и всегда радуетесь, когда они плохо ведут себя; но меня не проведешь: я, как ищейка от геральдики, издали чую настоящего аристократа.
– Так вы никогда не верили в его княжеский титул?
– В его княжеский титул? Верил… Но в его княжеское достоинство – никогда.
– Недурно сказано, – заметил Бошан, – но уверяю вас, что для всякого другого он вполне мог сойти за князя… Я его встречал в гостиных у министров.
– Много ваши министры понимают в князьях! – сказал Шато-Рено.
– Коротко и метко, – засмеялся Бошан. – Разрешите мне вставить это в мой отчет?
– Сделайте одолжение, дорогой Бошан, – отвечал Шато-Рено, – я вам уступаю мое изречение по своей цене.
– Но если я говорил с председателем, – сказал Дебрэ Бошану, – то вы должны были говорить с королевским прокурором?
– Это было невозможно; вот уже неделя, как Вильфор скрывается от всех; да это и понятно после целой цепи странных семейных несчастий, завершившихся столь же странной смертью его дочери…
– Странной смертью? Что вы хотите сказать, Бошан?
– Вы, конечно, разыгрываете неведение под тем предлогом, что все это касается судебной аристократии, – сказал Бошан, вставляя в глаз монокль и стараясь удержать его.
– Дорогой мой, – заметил Шато-Рено, – разрешите сказать вам, что в искусстве носить монокль вам далеко до Дебрэ. Дебрэ, покажите Бошану, как это делается.
– Ну, конечно, я не ошибся, – сказал Бошан.
– А что?
– Это она.
– Кто она?
– А говорили, что она уехала.
– Мадемуазель Эжени? – спросил Шато-Рено. – Разве она уже вернулась?
– Нет, не она, а ее мать.
– Госпожа Данглар?
– Не может быть, – сказал Шато-Рено, – на десятый день после побега дочери, на третий день после банкротства мужа!
Дебрэ слегка покраснел и взглянул в ту сторону, куда смотрел Бошан.
– Да нет же, – сказал он, – эта дама под густой вуалью какая-нибудь знатная иностранка, может быть, мать князя Кавальканти; но вы, кажется, хотели рассказать что-то интересное, Бошан?
– Я?
– Да. Вы говорили о странной смерти Валентины.
– Ах да; но почему не видно госпожи де Вильфор?
– Бедняжка! – сказал Дебрэ. – Она, вероятно, перегоняет мелиссу для больниц или составляет помады для себя и своих приятельниц. Говорят, она тратит на эту забаву тысячи три экю в год. В самом деле, почему же ее не видно? Я бы с удовольствием повидал ее, она мне очень нравится.
– А я ее не терплю, – сказал Шато-Рено.
– Почему это?
– Не знаю. Почему мы любим? Почему ненавидим? Я ее не выношу потому, что она мне антипатична.
– Или, может быть, инстинктивно.
– Может быть… Но вернемся к вашему рассказу, Бошан.
– Неужели, господа, – продолжал Бошан, – вы не задавались вопросом, почему так обильно умирают у Вильфоров?
– Обильно? Это недурно сказано, – заметил Шато-Рено.
– Это выражение встречается у Сен-Симона.
– А факт – у Вильфора; так поговорим о Вильфоре, – сказал Дебрэ, – вот уже три месяца они не выходят из траура; позавчера со мной об этом говорила «сама», по случаю смерти Валентины.